Воспитание под Верденом
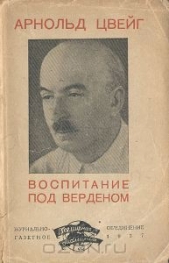
Воспитание под Верденом читать книгу онлайн
Арнольд Цвейг - крупный немецкий писатель-антифашист, описывает в романе эпоху 1 мировой войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Как вы относитесь, дорогой патер Лохнер, к истории царя Давида и его полководца Урии? Простите, что спрашиваю вас напрямик.
Патер пугается.
— Это было. убийство, — говорит он, — преднамеренное, бесстыдное убийство из-за женщины, смертный грех. Всему колену давидову пришлось искупить эту вину. Уже внук этой женщины потерял большую часть государства, несмотря на раскаяние Давида и заслуги Соломона.
— Вот видите! — бросает небрежно Кройзинг. — А какое наказание, по-вашему, закатят на земле и в небесах династии Нигля? Ибо это именно и есть тот грех, из-за которого я преследую капитана Нигля. С той только разницей, что в роли женщины в данном случае выступает не Батзеба а «репутация третьей роты».
Патер Лохнер неподвижно и церемонно восседает на стуле.
— Вам следует высказаться без обиняков, господин лейтенант, раз вы предъявляете такого рода обвинение.
Кройзинг радуется, что испортил хорошее настроение собеседнику.
— Вот именно этого-то я и хочу, — говорит он, открывая ящик, берет оттуда две бумаги, передает первую, большую, полковому священнику и просит прочитать ее.
Патер Лохнер неторопливо вынимает из футляра роговые очки; он читает последнее письмо Кристофа Кройзинга. При этом он шевелит губами и внимательно переводит глаза с одного слова на другое. Кройзинг одобрительно отмечает это.
— Вид письма, наделось, вас не смутит, господин полковой священник? Когда мы получили его, оно было немного склеено. Вы найдете еще следы в углу.
— Кровь? — содрогаясь, спрашивает патер Лохнер. — Какой ужас! Господин' лейтенант, я не хочу причинить вам боль: но какие у вас доказательства? Ведь капитан Нигль производит чрезвычайно добродушное впечатление. И хотя, конечно, мы привыкли к маскарадам и обманчивой внешности… — Он осекся.
— Милостивый государь, — издевается Кройзинг. — Вы еще придаете значение внешности? Разве после двух лет пребывания здесь вы еще не пришли к заключению, что полнота власти вредна для некоторых людей, а среднему человеку, чтобы сохранить свой облик, достаточно и среднего давления. Власть, которой обладает военная каста, переносит таких людей в слишком разреженную атмосферу, вот они и выходят из границ — все эти Нигли и компания. Какой-нибудь коммивояжер, торгующий вином, или казначей, с известной долей пронырливости, позволяет себе, без всяких угрызений совести, подвиги, какие подстать царю Давиду, с той только разницей, что он поспешно прячется за спины чужих людей, когда чувствует на себе кулак мстителя. — Сжав кулак, Кройзинг подымает правую руку.
— Говорите же, — просит вконец расстроенный патер.
Глава четвертая ДВА ПОДЧИНЕННЫХ
Тем временем оба солдата, Зюсман и Бертин, лежат, отдыхая, на железных койках, расположенных одна над другой в бывшей караульной, которая вмещает пятнадцать человек. Сейчас там пусто: саперы Кройзинга несут дневное дежурство в парке и вне его. Оба курят сигары и разговаривают как бы про себя. Бертин лежит на нижней койке, он слегка возбужден предстоящей ночной прогулкой.
— Производят ли и на вас такое же жуткое впечатление все служители культа, йе исключая и наших? — спрашивает Бертин.
— Редко сталкиваюсь с ними, — бормочет Зюсман.
— А У нам иногда приходится. Здесь, у Вердена, наша рота устроила примерно с полгода назад богослужение по случаю праздника троицы. И вот пастор проповедует о сошествий Духа святого, а тут же, в лабораторной палатке, направо и налево от него и от нас, стоят корзины, на ярлычках которых красуются желтые или зеленые кресты.
— Здорово, — говорит Зюсман (Бертину не приходится объяснять Зюсману, что желтые и зеленые кресты приняты для обозначения двух или трех видов ядовитых газов, которыми начиняют снаряды) *
— Остается предположить в его оправдание, что он близорук, — серьезно говорит Бертин. -
— В чем дело? — задает вопрос Зюсман. — Разве, по прусским понятиям, богу не угодно все то, что полезно государству? Впрочем, нам, евреям, надо помалкивать, — прибавляет он серьезно. — Эта война как раз под стать нашему старому богу.
— Да, — говорит беспечно Бертин, — «и в гневе моем я направляюсь туда, й тёнь моя в полночь падает на страну Ассур, и жители уползают в пещеры, и Рецин, царь Сирийский, предается стенаниям во дворце и в Дамаске, и й убиваю первенца египетского на юге и потрясаю дротиком и копьем, и топчу, словно копыта дикого осла, жатву у Аммона и уничтожаю стены Моаба, — сказал господь».
— Боже милостивый, — восклицает Зюсман, — где это написано?
— У меня в груди; мне ведь ничего не стоит придумать что-нибудь в этом роде.
— Вот и связывайся с поэтами, — рассеянно бросает Зюсман.
Он следит за большой черной паучихой, которая соткала сеть в углу над вентилятором и мечется взад и вперед, встревоженная дымом сигары.
— Поэт… — Бертин продолжает думать вслух. — Поэт? Очевидец, писатель. С представлением о поэте мы прежде всего связываем пестро расцвеченную фантазию, дар художественного творчества. Мы, поэты, не скупимся на небылицы и предпочитаем правдоподобный вымысел истине. Ныне, однако, истина более необходима, чем правдоподобие. Смотрите, Зюсман: четыре месяца, изо дня в день, паша рота изнемогает от работы па складе в Штейнберге, и за все это время не произошло ничего серьезного. Но вот меня посылают на позиции, в первый же день я встречаю молодого Кройзинга, и он просит меня помочь ему. Правдоподобно ли это? Разве могло мне притти в голову что-либо, хотя бы отдаленнейшим образом напоминающее то, что случилось? А между тем то, что случилось, сущая правда. Правда и все, что произошло после. На следующий день, не раньше и не позже, юноша попадает под обстрел; еще через день я опять ищу его, хочу отправить письмо, спасти его, а он уже сражен — его батальонное начальство добилось своего. По у меня открылись глаза! И с тех пор я не могу успокоиться. В настоящее время дело, значит, не в поэте. До тех пор, пока не будут изжиты последствия этой войны, добросовестные показания о ней будут важнейшей обязанностью тех, кто останется в живых. А кто не вернется, тоже выполнил все, что в пределах человеческих сил.
— А как же я? — слышится, отдаваясь эхом в своде, голос сверху. — Я ведь уже отдал все: я уже однажды
умер. Осколки наших собственных ручных гранат проносились со свистом мимо моих ушей, я уцелел лишь чудом. Я, значит, мог уже подвести черту, не так ли?
— Дорогой Зюсман, — успокаивает его Бертин, — от вас никто не требует большего.
— Благодарю за милостивое разрешение! — резко
звенит в серой мгле тонкий мальчишеский голос. — Не об этом я спрашиваю; я спрашиваю, имеет ли все это в целом смысл и оправдание? Я спрашиваю о том, стоит ли игра свеч? Приведут ли по крайней мере эти ужасные страдания, эти судорожные усилия хоть к новому целесообразному устройству общества? Будет ли новый дом более удобным, чем старый, прусский? Об этом начинаешь задумываться уже в обер-секунде, а <в унтер-приме 8воображаешь, что кой-какие этапы на твоем дальнейшем пути тебе уже ясны. К чему все это? — постоянно спрашиваю я себя. — Как это возникло, куда это ведет, кому это выгодно?
Бертин испуган. Разве не ему подобало задавать такие вопросы? Но он весь захвачен настоящим, впитывает его в себя, живет в нем, отдается ему. Чорт знает, думает он, почему я так доверчиво отожествляю действительное и должное? Прежде я этого не делал. Наверно, я пойму это потом.
— Если бы дело свелось только к таким невинным размышлениям! — откровенно говорит школьник Зюсман. — Но с тех пор как я рассказал вам мою историю со взрывом, мне не дают покоя и кое-какие другие мысли. Я вчера допытывал вашего обер-фейерверкера Шульца; он утверждает, что гранаты, стоящие на предохранителе, — и наши и французские, — взрываются сами по себе только в исключительных случаях. А между тем какой спектакль разыгрывался тогда, когда их рвануло: полы, развороченные до глубины канализационных труб, растерзанные пролеты окон, удар, отшвырнувший нас к стенам; а если бы на пустой орудийной площадке были не ручные гранаты, а что-либо похуже, что произошло бы тогда?

























