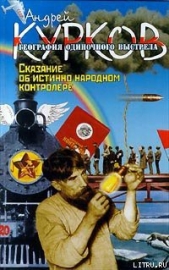Сказание о Маман-бие

Сказание о Маман-бие читать книгу онлайн
Перевод с каракалпакского А.Пантиелева и З.Кедриной
Действие романа Т.Каипбергенова "Дастан о каракалпаках" разворачивается в середине второй половины XVIII века, когда каракалпаки, разделенные между собой на враждующие роды и племена, подверглись опустошительным набегам войск джуигарского, казахского и хивинского ханов. Свое спасение каракалпаки видели в добровольном присоединении к России. Осуществить эту народную мечту взялся Маман-бий, горячо любящий свою многострадальную родину.
В том вошла книга первая.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Мы воины! — повторил Маман упрямо. Труженики! «Три месяца молока, три месяца дыни, три месяца тыквы, три месяца рыбы, — проживем…» Чья это пословица? Ваша!
Маман был поражен. Такие речи он слыхал от отца, и даже от него, батыра, они были менее удивительны.
Бородин переложил из правой руки в левую пудовую кувалду, которой бил камень, и внезапно обнял Мамана за плечи, стиснул железной десницей.
— Молод ты, а ведь не скажу, что глуп. Не на то растрачиваешь силу. Людей мытарить? Это дело палача, а не джигита.
Маман вырвался.
— Не можешь ты судить! Ты пленный, мой раб!
— А разве ты меня взял в бою? — спросил Боро дин. — Выкрали, как барымтачи лошадь. А болтаете про то, какие вы честные, праведные. И какие грозные! Много болтаете.
Опять Маман опешил. Вскрикнул, однако, с гонором:
— Вере учу!
Бородин громко рассмеялся:
— Слышал ты, чтобы русский сменил свою веру на вашу, видел хоть одного такого? Я не встречал.
Маман пожал плечами. Врать он не умел. Он тоже не слышал, не видел ничего подобного.
С этого часа и дня Бородин стал интересен Маману на всю жизнь. Не хотелось более пересилить этого человека. Хотелось его слушать, спрашивать. Любопытно было, как он ответит.
Бросил Маман палку, и со временем стало ему неловко и вспомнить, как он с ней управлялся. Потянулись долгие разговоры, втайне от стражников, благо они укладывались спать, когда он являлся. Услышал Маман сказку жизни Бородина и заслушался.
— Ведь вот как оно с нами случается. Наперед не угадаешь, во сне не приснится… Кто такой, братец ты мой, купец? Первейший человек в своем отечестве. Само собой, хлебушко поднять из матери сырой землицы — заслуга наибольшая. И землю ту оборонить, и навоевать иную, побогаче, — заслуга преславная. Но не единым хлебом жив человек. И там солдат не пройдет, хоть трижды кровь прольет и жизнь положит, где пройдет купец без меча и забрала.
Ежели хочешь знать, слышали мы от одного верного человека в Омске, своими ушами слышали: есть русские люди и в Джунгарии, за поднебесными перевалами, у великой горы, которой имя Хан-Тенгри, что значит — Царь Духов, в самой урге, то бишь в ставке Голден-Церена. Кто эти люди? Знамо, купцы! Ни одному батыру дойти дотуда не по силам. Скажешь, басни? Что же, не любо — не слушай, а врать не мешай. По мне эти басни дороже деньги. Они — как звезды в небе, их держись — не заплутаешься.
Сам-то я не шибко удачлив. Куда" уж нам, вологжанам! ан и мы хлебнули солоно.
Мы, братец, люди Петровы, стало быть, царя Петра. Подарил нам господь царя, какого свет не видывал. Не гнушался мастеровых, купца любил. Самолично ходил в заморские страны и тех уважал, кто дальше ходит и домой прихаживает не с пустой башкой. Пустую мошну прощал, башку пустую не миловал. Батя мой пошел по Петровой дороге со всей охотой и меня наладил, а я — своих сынов.
Родом мы из Вологды, наш товар — поташ да смола. Богатства на том не нажили, но видать, как его наживают, видели. Тянулись из наших лесов — одни на север, к берегу морскому, другие поближе к Уралу, на восток. Нам судьба выпала обжиться в Уфе. Там завели товар покраше, подоходней. Сосед у нас был татарин многодетный. От его младших баранчуков я и набрался ваших слов, как ты вот наших.
Наслушался я купцов-туркестанцев, прознавших дорогу в Хиву, в Бухару, не терпелось мне туда же. С батиного благословения нанялся я толмачом к одному рисковому умельцу, побродил с ним, приобвык к делу. Понравился хозяину, поставил он меня приказчиком. И пошел я ходить с караваном: сперва от хозяина, а ужо как отдал мой батя богу душу, а мне капитал, — от себя самого.
Тут-то меня подстерег мой бес. Замыслил я всех переплюнуть: махнуть к афганам, а из афган, веришь ли, в Индию.
Долго нацеливался, замахивался. Недалеко ушел… В Черных Песках напоролся на лихих людей. Отобрали у меня и товар, и верблюдов, и прислугу. Я дрался насмерть в пару с приказчиком, нам и досталось до полусмерти: бросили нас, ни живых ни мертвых, без капли воды.
Время — июль месяц, день длинный, ночи ждать — не дождешься. Поднял я товарища, поползли с бархана на бархан, как черепахи. Солнце нас добивало. Легли в ямку, под саксаулом, вместе со змеями и ящерками. Гляжу, а мой дружок уж язык вываливает изо рта, мошка у него на языке. В той ямке я ему и засыпал песком очи. Крест начертил на песке в головах.
Чую, подступает мой черед: и у меня язык во рту не помещается. К ночи из последних, крайних сил зарылся я в песок, а он чем глубже, тем черней, стало быть, от сырости, живой воды. Лег грудью, лицом на эту сырость, забылся. С рассветом очнулся, вроде бы ожил. И жажда не та, и язык на месте. А на горизонте, по краю земли, в зоревом соку, скачут, играют то малые точки, то буквы-алефы аж до неба. Караван! Встать, крикнуть мочи ист, в глазах помутилось. Смекаю, однако, — я на караванном пути, наткнутся на меня.
Наткнулись. До того я был страшен, что робели ко мне подступиться. К тому же иноверец… Хотели было уйти. Но караванщик главный, видать, прикинул, что ежели я живой, то уж не подохну. Подкормив, можно меня продать с выгодой. Он вез на двух ослах соль в Хиву. Я стоил дороже его товара. Это меня и спасло. Развьючили осла, посадили меня.
В Хиве, на базаре, я оказался самым видным из всех, кого вывели на продажу. Купил меня за хорошую цену маслодел, поставщик ханского двора. Стал я бить кунжутное масло. Помаленьку окреп, оброс новой шкурой. Меня и приметили. Попался на глаза ключнику ханского дворца. А они не ладили — ключник и мой маслодел. Ну и науськал на меня ключник ваших попов. Заявился к моему господину главный мулла мечети, напугал до немоты и дрожи: грех, мол, есть масло из моих рук, пущай раб принимает ислам.
Так что, видишь, по этой части — не ты первый, не ты последний.
Я еще отцу дал зарок: учить вашу грамоту буду, креста с себя не сниму. Чтобы душу мне растоптать, надо ее из меня вынуть. Вот и стали ее вынимать. Били меня плетьми у столба принародно. Я стоял на своем. Тогда порешили казнить.
Казнь для нашего брата придумали ваши святоши лютую: силком напоить соленой холодной водой, отчего в смертных муках сроком через сутки человек должен лопнуть. Верующим, стало быть, урок и потеха.
Связали меня по рукам и ногам, налили в рот не воды — соленой каши. Бросили посреди площади. И пошли любители смотреть на мои муки. Иные усаживались, оглаживали бороды, закладывали за щеку табак, чтобы уж насладиться всей душой.
А я лежу и не лопаюсь. Минули сутки, я живой. Корчусь, глаза на лоб вылезли, а дышу.
Ехал мимо ханский визирь, соблазнился посмотреть. Сошел с коня, потыкал меня нагайкой в брюхо, глянул в глаза. Не знаю, что ему примстилось. Велит спросить меня: пойду ли я служить нукером хану? Я выговорить ничего не могу. Рычу в ответ, как дикий зверь.
Кинулись ко мне, развязали. Отпоили топленым бараньим жиром. Я и оклемался, слава богу. С той поры, правда, соленого в рот не беру.
Нарядили меня, вооружили. Довелось воевать против Бухары, ходил в поход на Мары. Силенка кое-какая водилась за нами, трусить нам не с руки. Не хотелось уронить себя. А как стали от меня бегать ваши молодцы — вошел во вкус. Тем и прославился. Года не прошло, представили меня перед очи хана, а он мне — чин жузбасы, по-нашему — сотника. После этакой оказии прежний мой господин и тот самый ключник стали мне кланяться, кладя руку на сердце, хотя я и православный.
Еще я подивил тамошних господ хороших тем, какой я лекарь. Брюхо-то у меня разоренное, а вода в Хиве, в арыках, как в вологодских лужах. Напала на меня чесотка, как на дитя золотуха. Исчесался, изодрался весь, точно изъеденный комаром-гнусом. Нужда заставила вспомнить, чей я внук. Бабка моя по матери понимала в травах и меня тому учила. Попробовал я пустить в ход зеленый тутовый лист. Как рукой сняло! Гляжу, а у вас этой чесотки кругом полно. Обсыпали меня болящие, как мухи, — попервости ратники, челядь дворцовая, а там и горожане.