Истоки
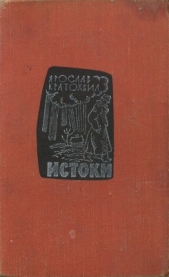
Истоки читать книгу онлайн
Роман Ярослава Кратохвила «Истоки» посвящен жизни военнопленных чехов и словаков в революционной России 1916–1917 годов. Вместо патетического прославления «героического» похода чехословаков в России Кратохвил повествует о большой трагедии военнопленных — чехов и словаков, втянутых в контрреволюционную авантюру международной реакции против молодой России, и весьма неприглядной роли в этом чехословацких буржуазных руководителей, а так же раскрывает жизненные истоки революционного движения, захватывавшего все более широкие слои крестьянства, солдат, как русских, так и иноземных.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Возмущение, ярость, гнев и насмешку вложили оскорбленные чехи в слова песни, подхватив вслед за Гавлом:
Этой песней они заглушили Орбана.
Но когда опали высоко вздымавшиеся волны воинственной песни, опять раздался живой, неистребимый, вызывающе-патетический голос:
— Igen! Igen! Я — мадьяр! По сердцу — мадьяр!
И чувствую себя мадьяром! До мозга костей! На него набросились:
— Ха-ха-хаа!
Но Орбан устоял и перед этим натиском.
— Вся моя гордость — в том, что есть во мне этот честный, врожденный инстинкт…
— По-зоооор!
— Я благодарен природе… и культуре… — Голос Орбана, одинокий теперь, срывался, но не уступал: —…которая пробуждает человека… даже в темном словаке!..
Ураган негодования, смеха, протеста и возмущения обрушился на него, сломил, растоптал, задушив и слабые аплодисменты, вызванные последними его словами.
Бауэр, все время стоявший спиной, теперь круто повернулся к Орбану, задыхаясь от гнева и возмущения, он выдавливал из себя бессвязные слова о янычарах, о школе…
Гавел выкрикнул то, что пытался сказать Бауэр:
— Отуреченный хуже турка!
Но уже все настойчивее давал себя знать усталый полумрак, требуя тишины.
Гофбауэр слез с нар. Он, казалось, был застрельщиком этого требования.
— Genossen, Genossen!.. — восклицал он.
Кто-то накинулся на него:
— Чего орешь? Какие тут тебе «геноссен»? Ты вон Гофбауэр, а он всего-навсего Бауэр! [133]
Ссора рассыпалась смехом. Смех этот терзал Беранека пуще всякой ссоры. Он стоял рядом со своим унтер-офицером, готовый закрыть его собственным телом, но от смеха он не мог его защитить ни словами, ни кулаками. Хотел бы он обладать таким драчливым геройством, каким похвалялся Гавел!
А Гофбауэр, не обращая внимания на издевательский хохот, все взывал:
— Genossen, Gefangene… [134]
Покрывая его голос, Гавел бросил в сторону орбановцев:
— Изменник, предатель!
От выкриков Гофбауэра горячая волна прихлынула к медлительному сердцу Беранека, и сердце это рванулось из груди, подхлестнутое репликой Гавла.
Беранек почти машинально шагнул туда, куда новело его медлительное сердце. Он двигался прямо и честно, пока не приблизился к Гофбауэру. Тогда он молча размахнулся и ударил — один только раз, зато решительно.
Ошеломленный Гофбауэр свалился на нары, придавив лежащих, а Беранек, став центром всеобщего изумления, спокойно и твердо вернулся на свое место около Бауэра.
Драку, завязавшуюся после этого, но, к счастью, бессильную распространиться в узком проходе, прекратили подоспевшие русские караульные, погнав дравшихся под дождь, в слякоть.
Первым опомнился Гавел; с силой хлопнув Беранека по плечу, он заявил:
— Молодчина, Овца! Вот моя рука — с нынешнего дня! И кто бы подумал? Правда, лучше б ты кого другого, но… молодчина!
Бауэр ничего не сказал. Однако Беранек чувствовал в этом молчании удовлетворение, неспособное на упрек. И это наполнило его гордостью.
В тот же вечер из группы Гавла со скандалом вышел Райныш.
К следующему утру на дощатой стенке отхожего места для пленных свежими испражнениями была намалевана огромная виселица, а под нею красовались имена самых верных приверженцев Гавла. А над виселицей было выведено:
HOCHVERRÄTER [135]
Напротив же уборной, со стены коровника, кричали большие белые буквы:
TRETET IN DEN PATRIOTISCHEN
SCHUTZ-UND TRUTZVEREIN
VATERLAND! [136]
Слово «Vaterland» окружал ореол белых лучей. По оживлению в коровнике, замеченному даже ничего не подозревавшими чехами, и по организованному с самого утра паломничеству к нужнику видно было, что в заговор втянуто множество людей. Худые, оборванные пленные, не успев еще помыться, с насмешливым видом отправились к уборной. Забили уборную. В тесноте ощутили себя множеством. Высокомерно и издевательски потряхивали головой, вслух читали фамилии, написанные калом, осыпая их громкой и грубой бранью.
Первым известие об этом принес гавловцам Нешпор. Он встретил в дверях Шульца и отшатнулся от него, как от чумного.
— Падаль!
Шульц ответил ему с такой же ненавистью, и Нешпор хорошенько прижал бы его к стенке, не вступись за него поляки и даже кое-кто из чехов. Если б за Шульцем не стояло подавляющее большинство пленных — чехи передрались бы между собой. Весь день потом они переругивались в поле.
Вечером Гавел от имени всей своей группы настоятельно потребовал, чтобы Бауэр принял решительные меры.
— Мы — чехи! — кричал он, бия себя в грудь. — Есть у нас честь и гордость! Чех и немец или там венгр — это как огонь и вода! Всегда дрались и будут драться. И пусть нас уберут подальше от них! А то быть беде — еще пристукнут кого…
Беранек был расстроен донельзя; он никак не мог примириться с тем, что пятно государственной измены замарало его до сей поры чистое имя.
Прапорщик Шеметун воспринял эту выходку с какой-то смешной стороны. Он мог еще, пожалуй, непритворно разгневаться при виде загаженной стены и белой, заметной издалека, надписи, мог нагнать страху, отдав приказ немедленно уничтожить надписи; и он ни слова не возразил, когда Бауэр в наказание поставил на эту работу именно венгра Орбана и немца Клауса. Но на большее его не могло подвигнуть даже сердечное участие Елены Павловны.
Его рассмешило остроумие, с каким пленные отбыли свое наказание: в то время как Орбан и Клаус, под штыками караульных, размашистыми движениями счищали белую надпись — впрочем, буквы из извести все равно оставили след, — прочие их сподвижники вышли из коровника церемониальным маршем и без приказа, по очереди стали сводить, споласкивать, смывать позорные письмена под виселицей самым естественным для этого места способом.
Шеметун старался и возмущенному Бауэру представить весь инцидент с комической точки зрения. Он говорил примирительно и мудро, трезво, терпеливо и долго. И — тщетно.
— Милые вы мои! Честное слово, я уважаю ваш патриотизм, однако… поди возьми их! За то, что они умышленно запачкали русское имущество, мы их наказали. А наказывать их за патриотические чувства мы не можем. Мы эти чувства и от себя требуем, и у себя одобряем, и поддерживаем их. Конечно, никаких союзов среди пленных я не потерплю. Могу еще, пожалуй, посадить под арест своего дурака, зачем плохо караулил. А больше я ничего не могу. Поймите это. Где собирается много народу, там обязательно возникают разные партии, а партии на то и существуют, чтоб драться между собой. В этом — движение u жизнь. Впрочем, не будем философствовать. Историю же чешского королевства я знаю плохо. Я и нашу-то историю не знаю. Да и как можно знать, что да как было раньше, когда мы не знаем — и никогда не узнаем и не придем к единому мнению — о том, что да как на самом деле происходит сейчас, у нас на глазах. У каждого — своя правда. Заяц капусту любит, а волку она не по вкусу. Какое нам дело до предков, милые вы мои! Что было, то быльем поросло. Подумайте — вот наши деды, православные и католики, москали и ляхи, быть может, друг друга на кол сажали, а мы, несмотря на это, с большой приятностью… н-да!
Потом Шеметун велел рассказать себе всю историю еще раз и опять заговорил спокойно:
— Милые вы мои, каждый по-своему с ума сходит. Одна лишь торговля не терпит сумасбродств. Торговля — это цифры и трезвость. Почему мы, то есть русские и чехи, должны считать себя лучшими народами в мире, а немцев — худшим? Простите, пожалуйста, я не в обиду вам говорю, я хочу вместе с тем сказать, что вот, к примеру, вы, известный мне Вячеслав Францевич, лучше, чем, скажем, неведомый какой-нибудь Иоганн, малюющий дурацкие надписи. Совершенно конкретно! Потому что Вячеслав Францевич — человек образцового порядка, что бы он ни говорил. Человек порядка! Немецкого! И я, сибирский купец, хвалю его за это качество, а вовсе не за то, что он славянин. И за то, что он ввел тут у меня образцовый учет, так что никакой наш брат-земляк не придерется. В Сибири ты своим славянством ничего не добьешься. В Азии надо быть азиатом. Леля, Лелечка, ты только сравни свой славянский столик с его столом! Какие же тут братья?


























