Последний Иван
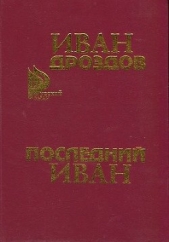
Последний Иван читать книгу онлайн
Антисионистский роман-воспоминание о времени и людях, о писателях и литераторах. О литературных и не только кругах. И о баталиях, что шли в них.
Дорогой читатель! Если ты русский - прочти эту книгу. Она писалась для тебя. Иван Дроздов - русский писатель, его книги замалчивались, их объявляли вредными и опасными. О себе он сказал: «Вся моя жизнь прошла в журналистском и писательском мире, а там много евреев. На обложке этой книги я мог бы написать: «Пятьдесят лет в еврейском строю». Но я своей книге дал имя «Последний Иван». Это потому, что они теснили меня со всех позиций, и я уходил, но уходил последним, когда уже не было никаких сил бороться. Ни одной позиции я не сдал ни под Сталинградом, ни под Курском, ни в битве за Будапешт, но здесь... отступал. Вместе со всем русским народом. А вот почему мы отступали - читатель узнает из этой книги».
"О чём вы говорите? Пока мы будем держать в своих руках прессу всего мира, всё, что вы делаете, будет напрасно. мы должны быть господами газет всего мира или иметь на них влияние, чтобы иметь возможность ослеплять и затуманивать народы". Барон МонтефиориВнимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Где вы остановились?
– В гостинице. У меня хороший номер.
– Ну, зачем гостиница. Поезжайте в наш домик.
Я знал, что такое «наш домик»: такие «домики» есть едва ли не в каждом городе и, мало того – в колхозах, совхозах, на стройках и заводах. Сказал:
– Благодарю, не беспокойтесь. Я лучше в гостинице.
– Нет-нет,- в домик! Я сейчас позвоню.
Переехал в домик. Тут вечером за круглым обеденным столом встретил второго жильца. Им оказался заместитель председателя Совета Министров СССР. Не стану называть его фамилию. Это был милый, простой человек и, конечно же, интересный собеседник. После прекрасного ужина – с вином и фруктами,- который, кстати, почти ничего нам не стоил, пошли гулять по городу. И в домик вернулись лишь за полночь. Но… в домик нас не пускают. У подъезда стоит человек, а возле его ног наши чемоданы. Человек извиняется. Показывает на машину:
– Позвольте отвезти вас в гостиницу.
– Как? – изумляюсь я.- Что произошло?
Но человек словно не слышит, вежливо показывает на машину.
Мы сели, и нас отвезли в гостиницу. Поместили в прекрасные номера.
– Здесь для вас будут те же условия,- сказал человек. И еще повторив два-три раза «извините», удалился.
Я решил, что в домике без нас произошла авария: что-нибудь прорвало, отключилось.
Назавтра стало известно: в Луганск прибыл член Политбюро ЦК КПСС – кажется, это был Щербицкий или Подгорный,- я точно сейчас не помню.
Вечером мы снова гуляли с моим новым высоким знакомым. Он был весел, живо, интересно говорил – казалось, его не обескуражила дикая выходка властей. Я откровенно ему сказал об этом:
– Ну, ладно, со мной так обошлись, но поступить так с вами?
Он ничего не говорил и лишь улыбался. Я же не мог успокоиться:
– Да как же он-то позволил – гетман Украины, некоронованный царь и властитель? Вы и по служебной лестнице стоите над ним. Наконец, ему бы с вами веселее было, да и дела бы многие он мог решить! Я поражаюсь!
– Напрасно вы его вините,- мирно заговорил важный государственный человек.- И местные власти тут ни при чем. Существуют правила охраны жизни членов Политбюро. По этим правилам, очевидно, никто посторонний находиться рядом с ним не может. Да если бы и не было специальных правил охраны его персоны, то и тогда бы жить с ним рядом было бы великим неудобством. Его и кормят, и обслуживают иначе, чем нас.
Случай этот поразил меня, и все подробности его поныне стоят перед глазами. Председатель облисполкома, поселивший меня в домик, конечно, не предполагал, что в тот же вечер к ним нагрянет такой высокий гость. При встрече на другой день он делал вид, что ничего не произошло, а я, конечно, тоже о нашем пассаже с ним не заговаривал. Одно я усвоил крепко: не совать больше своего свиного рыла в калашный ряд! И если, случалось, мне говорили: «Поместим вас в нашем домике»,- наотрез отказывался. Хотя, впрочем, и знал: члены Политбюро ездят по городам редко, а иные, вроде Михаила Андреевича Суслова, и вовсе никуда не выезжали, может быть, потому, что в партии и народе ходили о нем самые таинственные и страшные слухи: его называли то серым, то красным кардиналом и говорили, что он волен своей властью менять в государстве царствующих персон, и что водится он с самыми темными силами, и что быть от него большим бедам. Никто не знал, какого он рода и племени, и еще меньше знали, какие мысли копошатся в его маленькой крысинообразной голове. И вот ведь что интересно: сбылись смутные предчувствия русских людей. Большие беды свалились на нас к концу жизни серого кардинала: пришла к разорению русская деревня, в пьяную одурь погрузились славянские племена, реки стали черными от мазута, больной коростой покрылась земля, мор пришел на скотину. Чужебесие воцарилось в России. Но не увидели, ничего не поняли славяне,- как и когда умер этот человек, и лишь немногие заметили, что хоронили его как-то не по-людски, не по-русски, не по-христиански. Лежал он с ногами, поднятыми над гробом, в лакированных туфлях, блестевших так, словно он не в могилу уходил, а отправлялся на бал.
И песнопения были странные, русской природе непонятные.
Говорят, что так будто бы хоронят братьев своих масоны,- говорят люди неофициальные, мало чего знающие, а любители до всяких быль и небылиц,- им лишь бы языки почесать.
Одно тут, пожалуй, верно: христиане так своих людей не хоронят.
Мои отношения с новыми известинцами принимали характер азартной игры: я видел, с какой неумолимой последовательностью они выживают из редакции последних русских, с какой расчетливой жестокостью теснят «Иванов». Из рядовых известинцев – не связанных с ними и не танцующих под их дудку, шабес-гоев,- я, кажется, оставался один. И Вася Васильев, прося у меня очередную трешку и поводя при этом замутненным от принятых двухсот граммов взглядом, схватил, как клещами, локоть моей руки и зашептал на ухо:
– Последние мы с тобой: Иван да Василий.
– Ты им не мешаешь,- ответил я.
– Почему?
– Статьи не пишешь. Пьешь вот да слоняешься без дела.
Он долго стоял возле меня, то надвигаясь могучим телом, то отдаляясь, будто я его отталкивал, потом сказал:
– Мешаю и я им. Еще как!
– Да чем же?
– А тем, что существую, что морда у меня славянская. Они, как меня завидят, так и примолкнут. Сидят, как сычи, и ждут, пока удалюсь. Не могут они духа моего терпеть. Тайное замышляют.
Постоял с минуту Василий, глядя куда-то в сторону, и потом, как-то жалостливо сморщив некогда красивое лицо, проговорил:
– А ты, Иван, прости меня. Никакой ты не антисемит. Ты, как и я,- лишний здесь, и, как и все мы, русские, глуповат малость, и… блаженный. Ну, будь!… Только это… пером своим не размахивай. Не любят они… таких-то… кто их зашибить может.
Зашел к своему сослуживцу по «Сталинскому соколу» Когану. Хотелось послушать его философические местечковые сентенции. И на этот раз он принял меня приветливо, но в нотках его голоса я уловил недовольство.
– Ты помнишь, я тебе говорил: не обязательно надо уметь писать. У русских я слышал много пословиц – не скажу, что умных, но… ничего, есть дельные. Ну вот эта: «Слово как воробей, упустишь – не поймаешь».
– Не «упустишь», а «выпустишь».
– «Выпустишь»?… Может быть, но «упустишь» – тоже ничего. В жизни всегда так бывает: упустишь – плохо, не упустишь – хорошо. Ну, если выпустишь – ладно, выпускать тоже не надо. Вот ты выпустил – что из этого вышло? А?… Скажи мне – что?…
– Да что же я выпустил?
– Он еще говорит! Холодильники выпустил – больше ничего. Потом что-нибудь другое выпустишь. Ты такой – я знаю.
– Да как же я их выпустил? Наоборот: теперь их продают по справедливости.
– Хо! Он еще говорит! Смешно!…
Сидя у окна, он отклонял свою седую голову то вправо, то влево, нацеливался своим железным, каким-то особенным карандашом и касался тушью глаз, ресниц, ловко выскабливая на лицах славянские черты, придавая им вид восточный. В этом, как мне кажется, в целом свете не было мастера, равного ему.
– Мне нужны четыре холодильника,- ты дашь мне их?
– Да где же я возьму холодильники, Михаил Давидович? Да если бы я работал в магазине, я бы и тогда продавал по очереди.
– И брату родному, и сестре?
– И брату, и сестре.
Михаил Давидович качал головой, смеялся. Как-то внутренне, утробно, глубоко, с икотцей.
Повернулся ко мне, долго разглядывал. Сказал:
– А помнишь, как я тебе говорил: писать – хорошо, но можно не писать. Я вот не пишу, другие – тоже, а если бы напал на холодильники, я бы их имел, и ты тоже, и все другие…
В подобном роде Михаил Давидович и дальше развивал свои мысли, но слушать его было скучно. Он повторялся. И если коротко суммировать его философию, она сводилась к одному: «Надо быть умным, уметь брать».
Я смотрел на его большую кудлатую голову и думал: «Не стесняется своих мыслей: хотя в них ведь нет ничего, кроме циничного агрессивного эгоизма. Мира для него не существует. Есть он, его близкие – больше ничего».


























