Смех Афродиты. Роман о Сафо с острова Лесбос

Смех Афродиты. Роман о Сафо с острова Лесбос читать книгу онлайн
В романе современного английского писателя и ученого Питера Грина делается попытка воссоздать жизнь легендарной поэтессы античности Сафо, показать ее мир, мир любви и страданий, дружбы и предательства, чистых чувств и высокой поэзии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да что ты!
— Тебя удивляет? Ты никогда не думала, какой горький стыд испытывал Алкей от своего поступка? До такой степени, что он готов был выставить себя на посмешище, пустив в народ такую дурную шутку.
Агесилаид замолк. К своему удивлению, вижу, что глаза его полны слез. Йемена ласково взяла его за руку.
Что-то — должно быть, чувство вины — толкает меня сказать:
— Прости. Как бы мне самой хотелось помочь Алкею. Богам ведомо, что ныне он нуждается в друзьях, как никогда прежде. Но… — И слова застряли у меня в глотке.
— Есть какие-то личные причины?
— Да, есть, — сказала я и глубоко вздохнула.
В памяти всплыли злые и несправедливые слова, которые мне доводилось от него слышать. Эти жестокие, незабываемые стихи, словно заклинание, буравили мне мозг. Алкей, должно быть, смеялся, когда слышал, как их распевают в прибрежных тавернах: это был его последний и наилучший способ отомстить мне. При все том я — женщина, созревшая для жалости. Я пережила все возможные боли. Да, мои песни прежде тоже распевались. А теперь нет. Я тоже не могу рассчитывать на милости. Я знаю — кто лучше меня знает? — сколь жестокими Могут быть люди. На меня надвинулись все самые скорбные несчастья, в моем пугливом сердце словно ревет кличущий подругу олень — до того исполнено оно страстью и безумством. Чем суровее обвинение, тем правдивее. Я потеряла способность шутить, а с ней — и свое достоинство. Козни Афродиты вконец погубили меня.
— Так вы всегда были как кошка с собакой? — спросила Йемена. — Я что-то не припомню, чтобы вы не ехидничали и не подкалывали друг друга. И все-таки я как-то раз подумала…
— Как ни странно, нам нравилось подкалывать друг друга, — быстро ответила я. — Но мы были близки друг другу, ты же знаешь. Мне трудно это как следует объяснить.
(В памяти всплыл давно забытый разговор: «Так ты не любишь меня? — «Не очень». — «Почему?» — «Должно быть, потому, что наши нравы слишком схожи».)
— Ничего страшного, милая, — сказала Йемена. — Мы все понимаем.
Я чувствую невыносимую тяжесть от ее сострадания. И Йемена и Агесилаид старательно избегают вопросов, которые могли бы причинить мне боль: например, что случилось между мной и моей дочкой Клеидой, что я собираюсь делать в ближайшем будущем, есть ли хоть доля правды в слухах, которые обо мне ходят. Будущее расстилается передо мной бледным, серым, лишенным смысла. Одно спасение — сон. Но сон не приходит. Я лежу, а прошлое скребется в моем сознании, словно кошка в запертую дверь. Спертый воздух душит меня, хотя осень уже вступила в свои права; простыни раздражают мне кожу, опутывают руки и ноги. Вскакиваю с постели и резко распахиваю ставни. В комнату врывается поток лунного света, запах базилика, крик совы, вылетевший на ночную охоту. Зачем же я разбила фиал со снадобьем, которое Алкей привез мне из Египта? Из гордости? От страха? Как бы оно мне сейчас пригодилось! Что же соединяло нас при такой бесконечной, почти насмешливой вражде? Или — это была только маска?
Да что это я все: «был», «былое»? Почему я о нем — в прошедшем времени, будто его давно нет на свете?
Слова Агесилаида поразили меня больше, чем я сама готова себе в том признаться. Если быть предельно честной — больше всего меня расстраивает отсутствие дара заглядывать в суть вещей. Если бы я приняла его самоиронию за чистую монету, сколь ошибочным могло бы, в сущности, быть мое суждение об этом человеке! А если бы мне пришлось пересмотреть свое суждение о нем, не пришлось бы мне также осудить и саму себя?
Когда я размышляю об этом теперь уже седовласом старце, беспробудном в своем пьянстве и столь патетично рассказывающем о своем падении, мне становится за себя страшно. Признаю, доля вины за то, что с ним произошло, лежит и на моих плечах. Я не снимаю с себя ответственности за все, что с ним сталось! Он пожаловался мне в минуту отчаяния, а я была слишком молодой, слишком жестокой, слишком занятой собой, чтобы понять или позаботиться. Осудить человека слишком легко — не говоря уже о том, что это дает осуждающему чувство удовлетворения. Общение с этой милой четой — Исменой и Агесилаидом — явилось тяжелым уроком для моей гордыни. И по сей день остается таковым.
Всегда ли мне дано разрушать — или быть разрушаемой? Были ли долгая весна и лето моего счастья — только иллюзией? Могу ли я осмелиться заглянуть назад, за толщу лет?
В запущенном саду есть очень милый, покрытый узорами водоем с двумя неглубокими раковинами посредине. Вода тихо струится изо рта веселого бронзового фавна, которому наплевать, что с него давно не счищали серо-зеленых пятен патины. Среди колышущихся водорослей, под мутной, но прозрачной толщей зеленоватой воды таятся крупные рыбины; когда на них падает луч солнца, они вспыхивают, точно языки пламени. И то сказать, немножко порядка не помешало бы. Живые изгороди давно не стрижены, сквозь камни пробивается сорная трава, кочаны капусты давно уже пустили стрелки, да и сливы и яблони давно никто не обрезал. Последние розы рассыпают по траве восковые лепестки. Представляю себе, как, засучив рукава, принялась бы за дело моя мать — подметать, чистить, сжигать, в общем, приводить все в порядок! «Что возьмешь с этих холостяков, — недвусмысленно говорило ее выражение глаз. — Ничего им нельзя поручить!» Даже изгнание не могло погасить в ней страсти наводить порядок во всем мировом хаосе.
Агесилаид сказал, как бы извиняясь:
— Боюсь, до многого не доходят руки, госпожа Клеида. Делаю все, на что способен. — Он провел ладонью по копне темных волнистых седеющих волос и одарил мою мать самой обезоруживающей улыбкой.
В этой ознакомительной прогулке нас сопровождал Алкей; он явно хотел показать, какие они с Агесилаидом закадычные дружки; меня это даже немного нервировало. Шагая позади моей матушки, он подмигивает мне, словно соучастнице чего-то неблаговидного.
— Да нет, что ты, — сказала мама. — Здесь все так очаровательно. Мы перед тобой в неоплатном долгу. — Этот вежливый тон в ее голосе возникал тогда, когда она бывала чем-то кому-то обязана. В прошлом его хватало, чтобы обезоруживать не столь представительных мужчин, но Агесилаида этим не проймешь: он просто поднял бровь и улыбается по-прежнему.
— Милая, мы просто не могли бы позволить вам остаться в этом убогом, запущенном месте.
— Тем более, — сказала мама, — когда с нами местная знаменитость. — Ее юбки шуршат по каменным плитам, как у Медузы.
Агесилаид явно думает, что это замечание лучше пропустить мимо ушей. Он берет мою маму под руку:
— Пожалуй, лучше я проведу тебя по жилым комнатам. Я познакомлю тебя со слугой. Вообще-то он капризное создание, но очень радуется, когда у нас есть жильцы. — Он тут же шагает в дом, а мы с Алкеем остаемся в саду и вглядываемся в глубокий зеленый водоем, наблюдая, как плещутся в нем рыбы.
Алкей склоняет голову мне на плечо и ласкает меня:
— Сафо, фиалокудрая, святая, с медовой улыбкой! — Он выбрал для похвалы три самых традиционных эпитета Афродиты. — У тебя — взгляд богини, милая моя.
Затем, отведя взор от водоема, он продолжает несколько другим тоном:
— Очень мне хочется сказать тебе кое-что тихонько, только не смею… — Он вытягивает руки вперед. В этом жесте заметен некий знак бессилия. — Ты могла бы мне помочь, если бы захотела. Как никто другой…
Молчание.
— Ну, так скажи, — говорю я наконец.
В его глазах видна обнаженная агония.
— Не могу. Мне стыд мешает.
Я всем своим существом отшатываюсь от него. Во мне потоком струятся страх, презрение и смущение, отчего я становлюсь еще жестче, готовясь защитить себя.
Отвечаю холодным педантичным тоном:
— Если бы ты хотел сказать что-то приличное, что-то достойное, то не чувствовал бы стыда, а сказал мне открыто. Но глаза у тебя, точно у кобеля, полны омерзения…
Он встал — это был резкий, отрывистый жест. Вместо лица — холодная, лишенная выражения маска.
— Сука, — произнес он, и это слово прозвучало еще жестче, потому что высказано без жара, с оттенком усталого безразличия. — Холодная, жестокая сука. Все вы такие.
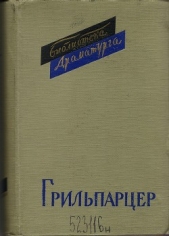
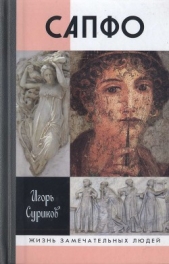
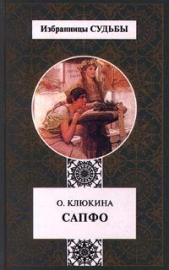
![Мелика [Вокальная лирика]](/uploads/posts/books/119726/119726.jpg)






















