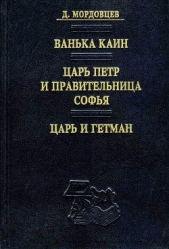Царь и гетман
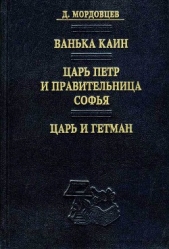
Царь и гетман читать книгу онлайн
Д. Л. Мордовцев, популярный в конце XIX — начале XX в. историк — беллетрист, оставил огромное литературное наследие. Собранные в этой книге романы принадлежат к лучшим произведениям писателя. Основная их идея — борьба двух Россий: допетровской страны, много потерявшей в течение «не одного столетия спячки, застоя…», и европеизированной империи, созданной волею великого царя. Хотя сюжеты романов знакомы читателю, автор обогащает наши представления интереснейшим материалом.
«Наступило лето 1709 года. Близилась роковая развязка для всех действующих лиц исторической драмы, избранной предметом нашего повествования.
Что делала в это время та нежная рука, которая так жестоко, хотя невольно, разбила и гордые политические мечты Мазепы, и личное его счастье, отняв у него и покойную смерть старости, и место на славном историческом кладбище его родины? Что делала и что чувствовала несчастная дочь Кочубея?»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Куда же девался старый «батько», оплакиваемый казаками?
А вон послушаем, что говорит народ, толкающийся на рынке в Белой Церкви. Рынок пестреет народом, как поле цветами: тут и истые украинцы — казаки, и польские жолнеры, и московские рейтары, слоняющиеся от группы к группе от шинка к шинку и скучающие по родине…
— Эх! Кабы да не этот швед проклятый, давно бы мы дома были!
— Да, толкуй! Ево, черта, и ладоном не выкуришь…
Внимание скучающих рейтаров привлекает один украинец, совсем голый, но в высокой смушковой шапке набекрень. Вместо рубахи и штанов на нем красуется полотенце, расшитое красными узорами и обмотанное вокруг голого тела так, как это принято у новозеландцев. Он стоит около сидящего на земле слепого нищего с бандурою в руках и о чем-то упрашивает его. Рейтары тоже подходят.
— Та заспивай бо, старче Божий! — упрашивает голяк.
— Та про кого? — спрашивает слепец.
— Та про батька ж Палия заспивай, голубе сивый!
— Та спивайте бо, дядьку! Чого боитесь! — упрашивают другие, собравшиеся кучкой около старца. — Мазепа не почуе, а почуе, так послуха…
— Та нам що Мазепа! Мазепа не наш, вин тогобочный! — протестуют новые голоса. — Спивайте, дядьку!.. Он и москали послухают (это к рейтарам — рейтары улыбаются дружелюбно).
— Спой, дедушка, не бойся: мы свои люди! — говорит один рейтар.
— Вашей веры мы — православные, — подтверждает другой.
Слепой нищий — это тот лирник, которого мы уже видели в Батурине на дворе у Кочубеев, — не поднимая своей старой слепой головы, тихо перебирает пальцами по струнам бандуры. Вдруг он начинает мотать головой из стороны в сторону, словно бы плакать ему захотелось, быстро перебегает левой рукой по ладам бандуры и скрипучим старческим голосом заводит:
— У! Иродова Мазепа! — не вытерпел голяк, наш старый знакомый казак Голота, до сих пор оплакивающий свою Хиврю и пропивающий все, что бы ни попалось ему под руку. — А-таки изгубив, бисив сын!
Другие слушатели посмотрели на Голоту, сочувственно покачали головами, но молчали. В немом молчании их держала бандура лирника, который, продолжая качать головою, вытренькивал на своих говорливых струнах то, что сейчас пропел горлом. Затем опять тот же говорок:
Снова умолкает старый голос, и снова слышится только треньканье бандуры.
Кто не слыхал пения кобзаря в Малороссии, где-нибудь на рынке или в праздничный день на улице, на свободной громадской сходке, тот не в состоянии будет представить себе, какое неотразимое влияние имеет эта простая, детски наивная поэзия на слушателей, как могущественно властвует над сердцем толпы бесхитростное слово песни, а в особенности ее музыка. Это особенная музыка — не песенная, не хороводная, не уличная, а музыка «дум» и «духовных стихов»: в ней большею частью звучит глубокая грусть; в ней для каждого слушателя отчетливо плачет его собственное горе, — а у кого в жизни не сидело оно на вороту в той или иной форме!.. Мазепа погубил Палия, каждому жаль Палия, но в плаче кобзаря о Палие каждому слышится и свой плач: все из этой толпы когда-либо плакали — и в плаче кобзаря непременно прозвучит для каждого хоть одна нота этого, для каждого «своего» плаканья…
Вот почему так горько плачет Голота — конечно, спьяну немножко, но и не пьяному нельзя не плакать… Другие не плачут потому, что стыдно, а пьяному нестыдно: за него его пропащая жизнь, пропащая голова… В погибели Палия он переживает похороны Хиври, когда и он был человеком, а не пропойцей…
А кобзарь, передохнув маленько, да покачавшись, да побренькав струнами без слов, опять выговаривает:
Толпа все больше и больше надвигается к кобзарю. Уже затерлись в ней и московские рейтары и плачущий казак Голота. Всем хочется послушать этой «новой думы» — дума эта плачет о человеке, которого многие видели здесь и в Белой Церкви, знали его, любили… Не видать уже его сивой головы в церкви, где он обыкновенно сам пел на клиросе, не развевается его сивый ус и на крепостной стене, не слышно больше его голоса… Слышится только голос кобзаря:
Куда же в самом деле исчез Палий, о котором уже успела сложиться народная дума?
А вот где он благодаря лукавству Мазепы, который успел-таки столкнуть его в яму, — в Сибири, в Енисейске, в самом отдаленном из известных в то время мест ссылки, на этом — буквально — конце света, у выезда из города, стоит жалкая избушка, обнесенная высоким частоколом с заостренными верхушками. В избушке всего два окошечка, да и те обращены куда-то на север, в неведомую для тогдашнего украинца область вечных снегов и вечной ночи. Недаром в Украине говорили, что царь по доносу «проклятого» Мазепы заточил Палия в такую темницу, до которой только вороны раз в году долетают — на Спаса, куда солнце доходит только раз в году — на Купалу, заточил его в эту темную темницу, а ключи от нее бросил в море…
Избушка, в которой поселили Палия в Енисейске, состоит из двух половин, разделенных сенцами. В той и другой половине поместился сначала сам Палий со своим пасынком Семашкою, которого тоже постигла ссылка, а когда к старику вместе с верным Охримом приехала в Сибирь и его мужественная «пани-матка», то Семашко свое место у вотчима уступил своей матери, а сам с Охримом перебрался на другую, кухонную, половину избушки.
Мучительно тоскливую жизнь проводил в своем заточении бедный старик, у которого было отнято все — и родина, и родные, и его не родные, но дорогие ему «детки» — казаки, которых он вырастил, выкормил, на коней посадил. Целый край отняли у старика, край, им созданный на месте кладбища, вызванный к жизни из могилы, которая даже уже быльем поросла. Это было хуже пленения вавилонского: уведенные в вавилонский плен евреи не сами создали и оживили обетованную землю, они получили ее в наследство от предков, а Палий сам создал и оживил правобережную Украину на месте ужаснейшей пустыни, тем более ужасной, что это была не Богом созданная пустыня, а «руина», усеянная развалинами городов, крепостей, церквей и усыпанная костями человеческими, украинскими костями.
В далекой ссылке старику ничего не оставили на память о родной стороне, даже одежды — его одели в одежду ссыльного. Только каким-то чудом уцелела у него «хусточка», вышитая украинскими узорами, и уцелела потому только, что когда в Москве, в малороссийском приказе, пленного старика одевали в московское арестантское платье, он плакал и этою «хусточкою» утирал себе слезы… В Енисейске, в своей ссыльной избушке, он повесил эту «хусточку» под образом Богородицы, «утоли моя печали» — и молился этому образу.
По целым дням, бывало, старик и его товарищ по изгнанию, молодой Семашко, сидят на берегу Енисея и вспоминают о далекой родине… Хоть бы птица залетела оттуда! Хоть бы песню родную ветер принес с Украины — нет, ничего не слыхать…