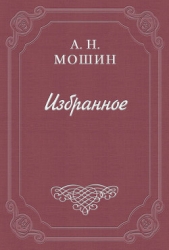Вишнёвый омут

Вишнёвый омут читать книгу онлайн
В романе известного советского писателя М. Алексеева «Вишнёвый омут», удостоенном Государственной премии РСФСР, ярко и поэтично показана самобытная жизнь русской деревни, неистребимая жажда людей сделать любовь счастливой.
Данная книга является участником проекта "Испр@влено". Если Вы желаете сообщить об ошибках, опечатках или иных недостатках данной книги, то Вы можете сделать это по адресу: http://www.fictionbook.org/forum/viewtopic.php?t=3127
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Авдотья Тихоновна, встретив дочь и зятя, долго и пристально глядела в их лица, стараясь угадать, всё ли хорошо, всё ли ладно у них. Но ничего не поняла. Вздохнула, повела гостей в избу.
23
Долгие-предолгие зимние ночи. За утренней зарёй по пятам следует вечерняя. И в ясные, солнечные дни чувствовались, виднелись сумраки раннего утра и раннего вечера одновременно: на смену красновато-холодным приходили жидко-фиолетовые, которые, сгущаясь, становились тёмно-синими, прозрачными под звёздами студёного ночного неба.
В харламовскую пятистенку свет едва процеживался через окна, покрытые серым мохнатым слоем рыхлого льда. Лишь в проделанные мальчишескими языками и носами круглые крохотные зрачки кинжальчиками просовывались тонкие пучочки солнечных лучей, в которых мельтешила золотая россыпь пыли. Изба, полутёмная, полным-полна детворы: невестки хорошо знали своё дело и в каких-нибудь пять-шесть лет увеличили население Харламовых втрое. У старшей снохи уже было два сына и две дочери: Иван, Егор, Любаша и Машутка. А теперь Дарьюшка ходила пятым. У них с Фросей шло как бы негласное состязание: младшая сноха никак не хотела отставать от старшей. У неё совсем недавно народился третий ребёнок. Дочь назвали в честь прабабушки Настей, сыновей — Александром и Алексеем — по святцам.
Третий год шла война. Николай и Павел были на фронтах — один где-то под Перемышлем, а другой — на Карпатах. Редко приходили от них письма. Фрося, неожиданно для всех необыкновенно привязавшаяся к мужу, всё порывалась поехать проведать его, говорила свёкру и свекрови, что ей уже дважды приснился нехороший сон и что поэтому она должна непременно поехать. Подобралась для неё и спутница, давняя подруга Аннушка, муж которой Михаил Песков служил в одном полку с Николаем. Настасья Хохлушка, суровая и мудрая старуха, не отпускала.
— Куда вас нечистый понесёт, — говорила она снохе и её подруге, — в этакую-то даль? Щоб вам повылазило! — И обрушилась на невестку: — Мало тебе трех-то! За четвёртым собралась, глупая ты бабёнка! Пожалели хотя б отца-то! Измучился он с ними — ни дня, ни ночи не знает покою! Ой, лишенько!..
Из горницы, густо населённой детворой, под скрип зыбок, подвешенных к бревенчатым маткам потолка, слышалось мурлыканье Михаила Аверьяновича:
Или:
Дед сидел на табуретке и, как фокусник, делал сразу же несколько дел: одною ногой качал люльку с крохотным сонулей Ленькой, другою притопывал в такт немудрёной своей песенке, а на руках у него было по ребёнку; одного из них Михаил Аверьянович, обняв левой рукой, подбрасывал на коленях, а другого «тутушкал» на широченной ладони правой руки. Ребёнок, взлетая точно мячик, радостно гыкал, обливая дедушкину руку обильно стекавшей с красных губ слюною. Дедушка тоже смеялся и просил Саньку, притулившегося у него на коленях:
— А ну-ка, Санек, спой мне про мышку!
Санька, худенький, рыженький и востроносый, как воробей, — вылитый батя! — сиял золотистыми веснушками и звонким, пронзительным голосом пел:
Дед и другие внуки и внучки подпевали:
Песни всегда порождали у детей дикое буйство. Подымался невыразимый ералаш, и, чтобы как-то немного угомонить детвору, Петру Михайловичу, обычно не выдерживавшему до конца необузданного её веселья, нередко приходилось пускать в дело чересседельник, висевший для устрашения на стене. При этом чаще и больше всех доставалось Егорке — и не потому, что он озорничал больше всех, а просто потому, что Егорка был менее увёртлив и не мог вовремя ускользнуть от осерчавшего отца.
На улицу детей не выпускали: не во что их было обуть и одеть. И весь этот «содом», как звала внуков и внучек Олимпиада Григорьевна, всю зиму, от первых морозов до первых проталин, сидел дома, как и большинство детей в Савкином Затоне. Где-то далеко-далеко шла война. Дети, как и все люди на земле, страдали от неё, но, в отличие от взрослых, не понимали этого.
Петру Михайловичу старики затонцы говорили с явной укоризной:
— Куда ты их, хохленок, наработал? Разуты-раздеты, а вы всё плодите со своей Дарькой.
Пётр Михайлович, по обыкновению, отшучивался:
— А я-то тут при чём? Живу, сами знаете, у большой дороги, а таи много мужиков ходит…
От Николая пришло письмо — из Челябинска, куда отвели их полк на переформирование; Теперь уж Фросю удержать никак нельзя было — собралась и уехала. Когда вернулись из Баланды провожающие, Олимпиада Григорьевна, умиляясь, молвила!
— Господи, любит-то как она его! В какую дальнюю дорогу собралась!
Михаил Аверьянович поглядел на тихую и кроткую свою жену, но ничего не сказал. Лишь вздохнул. Весь месяц, пока не было Фроси, они прожили в большой тревоге за неё и только теперь поняли, какой близкой и родной стала для них младшая сноха.
Фрося вернулась без предупреждения, и потому её никто не встретил на станции. Её торопливые, лёгкие шаги услышали лишь тогда, когда она подходила к сеням и когда под её ногами звонко хрустнули первые сосульки, сорвавшиеся с соломенной крыши. Она вбежала в дом необыкновенно оживлённая, румяная и холодная, как осеннее, схваченное морозцем яблоко. Синие на обожжённом солнцем лице глаза её светились счастливо и загадочно.
«Привезла», — безошибочно определила Настасья Хохлушка, сердито поджав губы.
А Фрося, по-девичьи свежая, яркая, уже сидела на печи, облепленная со всех сторон детьми — своими и Дарьюшкиными. Ребятишки хвастались друг перед другом конфетами, боролись за лучшее место возле Фроси, от которой веяло далёкой дорогой и ещё чем-то непередаваемо нежным и милым. Дети жались к её груди, тыкались мокрыми носами в тёмные косы. А она, сильная, здоровая, говорила и говорила без умолку, рассказывая о своём путешествии. Потом, согревшись, почувствовала усталость, закрыла глаза и заснула. Дети притихли. Босые ноги Фроси уткнулись в горку сухих яблок, сдвинутых в угол и источавших чуть грустноватый, сладостно-терпкий дух осеннего сада: багряных листьев, коры, умирающих трав.