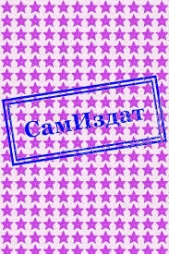Арка святой Анны
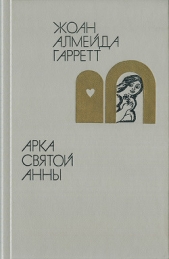
Арка святой Анны читать книгу онлайн
Исторический роман выдающегося португальского писателя Алмейды Гарретта (1799–1854), рассказывающий о восстании населения города Порто против деспотизма средневековой церкви и епископа, похитившего жену одного горожанина.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Жесты, голос, вдохновенный и искренний вид юного оратора — еще более, нежели слова его, — привели людей в восторг. Взрыв здравиц и неистовых рукоплесканий загремел над толпою, знаменуя торжественное приятие клятвы того, кого горожане избрали своим предводителем и главою.
— А теперь идем в палату Совета! — молвил Руй Ваз. — Возьмем наш штандарт, хоругвь Богоматери.
— Идем! — взревел хор голосов.
— А по пути, — предложил один из числа тех, у коих всегда наготове какой-нибудь гнусный умысел, если им кажется, что при исполнении оного они не рискуют собственной особой, — а по пути вышвырнем из окошка наших толстопузых судей.
— Кто это сказал? — загремел Васко. — Хочу взглянуть ему в лицо, и пускай повторит свое гнусное предложение у всех на виду.
— Это вон кто сказал, — отвечали в один голос три дюжих медника и тут же схватили и выволокли из толпы щуплого и оборванного человечка, портняжку-штопальщика, которого все знали как отъявленного прихлебателя, пробавлявшегося крохами с епископского стола; при появлении деспота-прелата он кланялся ниже всех и бухался на оба колена, дабы удостоиться пастырского благословения. Тотчас же всем стало известно — в подлунной все становится известно, — что лачужка в Рио-де-Вила, где проживал он, принадлежала мастеру Мартину, одному из судей, приговоренных им к Тарпейской скале, {143} каковой давал ему кров из милосердия, за что портняжка платил ему тем, что время от времени шил скверный колпак либо штопал старый плащишко с капюшоном.
— Разоружить этого негодяя, — приказал Васко, — и взять под стражу. Такие защитники народу не нужны.
— Хорошо сказано! Да здравствует наш предводитель!
Когда бы все народные вожди умели и осмеливались таким манером обуздывать тех, кто льстит дурным страстям народа, его сикофантов, {144} — а таковые сыщутся и на площадях, не только во дворцах, они всегда там, где власть, — деспотизм давным-давно исчез бы уже с лица земли. Зерна свободы дают ростки в любом климате, но когда появится побег, надобно, чтобы нашелся Вашингтон, который сумел бы выполоть дурные травы и поставить подпорку, не то всякого рода колючие сорняки и чертополохи разрастутся вокруг так буйно, что побег сей погибнет.
Из глаз Жертрудес, нашей восторженной Жертрудес, покатились слезы радости, когда увидела она, что ее Васко с таким великодушием умеет распоряжаться властью, которой обычно все склонны — естественная склонность! — злоупотреблять.
Студент улыбнулся возлюбленной и, попрощавшись с нею знаком, понятным лишь им двоим, возвысил голос, обращаясь к толпе, и воскликнул:
— Вперед, друзья! Блюдите порядок! И никаких бесчинств, никому не чинить вреда!
— Слава, слава! Вперед! — отвечала толпа в восторге.
Васко сбежал по лестнице дома Аниньяс; и каково же было его удивление, когда при выходе из улицы он увидел своего благородного, своего любимого гнедого, взнузданного и под седлом; недавно вверив коня попечению епископского конюшего, юноша и не чаял снова увидеть его так скоро!
Право же, не сильнее была та радость, которую испытывали Пальмерин, или Амадис, или сам Флорисмарте Гирканский, {145} когда, избавившись от чар, надолго задержавших их в плену, либо выбравшись из львиного логова либо из пещеры людоеда-полифема, обнаруживали, что их уже ожидают любимые скакуны, которых они оставили на расстоянии двух или трех тысяч лиг отсюда и которые теперь стоят тут под седлом, взнузданные и наготове, роют землю копытом и трясут разметавшейся гривой, счастливые оттого, что снова видят своих хозяев.
— Так ты здесь, мой славный гнедко! — приговаривал Васко, лаская коня и оглаживая его лоснящуюся холку, — мой отважный, мой бесстрашный! Кто тебя вернул мне так своевременно, когда был ты мне всего желаннее и нужнее!
— Это моих рук дело, я не позволил отвести его во дворец, — отвечал Гарсия Ваз. — Еще чего! В военное время конь — часть воинского снаряжения, то же самое, что оружие, врагу их не отдают. Наш предводитель не мог бы командовать нами пеший; а жеребца под стать этому не сыскать во всем городе, да, пожалуй, и во всей округе Энтре-Доуро-и-Миньо. Мы знаем, как вы его любите… Да к тому ж и добыча добрая! Отпустите поводья, тетушка!
Васко, упивавшийся созерцанием своего любимого гнедого, до этого мгновения не замечал странного пажа, который держал поводья. То была старая-престарая старуха, еще более ветхая, чем ее залатанная накидка, иссохшая, согбенная, голову ее прикрывал огромный капюшон, ниспадавший ей на спину и похожий на траурный убор, она опиралась на посох, скрюченный и корявый, подобно ей самой; сущая ведьма, кожа да кости, о мясе можно не упоминать, его и в помине не было.
— Да, да, — прошамкала старуха, — отпущу я поводья, передам их тому, кто так отменно владеет ими и правит конем! Благослови его бог! И что за славный молодчик у нас предводителем!
Едва произнесла старуха первые слова, как добрый наш студент, оцепенев, словно во власти внезапного изумления, устремил на нее испуганный взор — и он уже не видел более гнедого, не видел ничего вокруг.
— Примите же, примите поводья, — молвила старуха с особенною, многозначительной интонацией, как бы призывавшей юношу взять себя в руки. — Берите поводья, и в путь, уже пора.
Никто не заметил этого мгновения близости меж старой нищенкой и предводителем мятежа. Васко действительно овладел собою, вскочил на коня и, возглавив свою рать, не очень-то умело соблюдавшую строй, двинулся к старинным строениям Сената града Порто.
— Буди благословен ты сам и да будет благословен путь твой, — прошептала старуха ему вослед, — ибо ты наполняешь светом и ликованьем очи той, что вскормила тебя!
Затерявшись в толпе, она исчезла в каком-то неприметном переулке, и мне неведомо, куда она делась, ибо никто больше не видел ее.
Глава XXVI. А Аниньяс?

А Аниньяс? А бедняжка Аниньяс, брошенная в темницу? Что с нею сталось, сеньор сочинитель? Разве можно на такое долгое время оставлять в мерзком тюремном застенке юную красавицу, да к тому столь располагающую к себе, столь добронравную, подружку нашей Жертрудес, одним словом, Елену сей Трои, {146} из-за похищения коей непобедимый град наш уже пылает в огне мятежа, чуть ли не гражданской войны? Проходят главы и главы — одна короче другой, это верно, но их немало, — а беспечный летописец ни слова о том, что с нею сталось.
Отвечаю, друг-читатель: вина не моя. Сервантес не мог отвечать за оплошности и промахи Сида Ахмета Бен-инхали. {147} Если Дульсинея заколдована небрежно, и мы то видим, как гарцует она на ослице по тобосским полям, то разгуливает со своими прислужницами по прелестным садам пещеры Монтесиноса; если наш приятель Санчо появляется верхом на сером, которого двумя страницами раньше таким прехитрым способом выкрал из-под него честный Хинес де Пасамонте, — то повинен в этих ляпсусах мавр-летописец, а не христианин, издавший его сочинения.
То же самое происходит и со мной, когда тружусь я над сей правдивой повестью. Кое-что переписываю без изменений, кое-что перевожу — в зависимости от того, насколько устарел язык бесценного манускрипта, каковой посчастливилось мне найти. И если случается мне вставить собственное суждение или размышление в виде комментария к событиям, то я ни разу не позволил себе изменить последовательность повествования и неотступно соблюдаю ту, которую избрал высокомудрый Сверчок, коему обязаны мы этими несравненными летописями, прославляющими и возвеличивающими наш град и историю Сената его и народа.