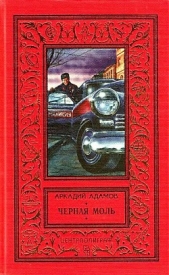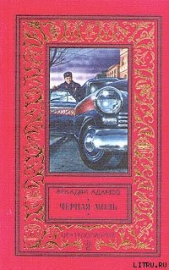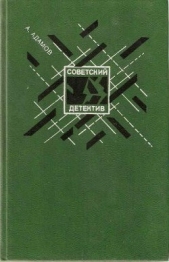Моль
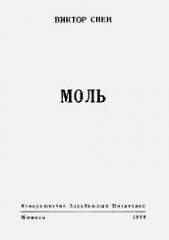
Моль читать книгу онлайн
Не без колебаний и сомнений Автор взял и сделал главной фигурой своего действа Леонида Николаевича Решкова, вначале - то есть в 1905 году - бывшего восьмилетним Ленькой, случайным сыном портовой девки.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Решков растерянно оглянулся вокруг, словно выбирая направление, но тут же сообразил, что это ошибка, что ничего и никогда он не будет ни определять, ни решать.
«А если так, — сказал себе Решков, — значит…»
Фраза осталась не законченной, последние слова не были произнесены. Но сдаваться он всё же не хотел. Иллюзия самолично выбираемого пути была обольстительной.
«А вот возьму и всё переиначу», — продолжал обманывать себя Решков, с радостной растерянностью наблюдая, что к нему несутся мысли, чем-то напоминающие древние, торжественные и великие проповеди.
— Да, да, — шептал Решков, и соломинка превращалась в стальную опору, готовую не только принять на себя, но и выдержать всю тяжесть жизни.
Решкову может быть удалось бы что-то додумать до конца, что-то решить и освободиться от душевного страдания, если бы вдруг он не вспомнил, что недавно возникавшие отрывки проповедей — это то самое, что было принесено человечеству давным-давно, наивной верой людей в какие
-то
заповеди, верой в какого-то Христа.
Мысль о Христе сразу же сменилась мыслью о Кресте, на котором Тот был распят.
«О чем это я? — растерянно подумал Решков. — Я в чем-то запутался. Во всем этом надо разобраться».
Но разобраться ему так и не удалось: в дверь стучали.
—
Кто там? — спросил Решков.
—
Дежурный оперативной части.
Решков открыл дверь и принял конверт с пометкой: «Срочно. Лично. Секретно».
Когда дежурный ушел, часы пробили полночь.
«Вот тебе и воскресная передышка», — прочитав распоряжение, подумал Решков.
Приказ Председателя явиться точно в девять часов утра его не удивил, хотя совсем недавно сам же Председатель говорил о «передышке». Значит, что-то важное стряслось. Строя догадки Решков остановился, в конце концов, на наиболее вероятном предположении, что поступили новые материалы по делу заговорщиков, с которыми был связан белогвардеец Феликс Вольский, ускользнувший из рук чекистов.
Решков был далек от истины. Это легко объяснить тем, что он совсем забыл о Суходолове, так и не вернувшемся из поездки в одно из сел Тамбовщины. Не знал, конечно, Решков и о том, что Председатель изучил донесение двух опытных агентов, случайно установивших, что Суходолов в Москве, но в чека не явился. «Он, — осторожно писали агенты,
— вроде бы перешел на нелегальное положение».
С этим нелегальным, подделавшимся под рабочего в поношенном пальто и кепке, и столкнулись агенты, но остановить Суходолова не рискнули. «О чем и сообщаем, — заканчивали свое донесение агенты. — А где сейчас Суходолов
— не знаем».
Догадайсь, что вызывают его по «Делу Суходолова», Решков, понятно, мог бы самому себе сказать с удовлетворением: «Ты, Леонид Николаевич, свой „суходоловский вариант“ довел до конца».
Но он об этом не догадывался и, конечно, не мог знать, что теперь уже «нелегальный» Суходолов, пробираясь по одному из переулков в районе Каланчевской площади, заметил Воскресенского, прижавшегося к стене углового дома.
Суходолов долго рассматривал эту жалкую, видимо уже давно мерзнущую на холодном ветру фигуру. Всё: и потрепанное пальто, и разбитые красноармейские ботинки, и
мер
твенная желтизна щек — такое, в общем всё обычное — встревожило Суходолова. Сам себя поставивший «вне закона», он увидел чужую окончательную обреченность и вздрогнул от жалости.
Понять это очень трудно. В самом деле, кто заглянет в душу Суходолова и кто объяснит, почему он подошел к старику и спросил:
— Значит, выгнала-таки вас из каморки пролетарка Мешкова?
Воскресенский с трудом поднял остывшие глаза и узнал Суходолова.
— Пришлось уйти. А вот куда идти — не знаю. И стою тут. Словно задачу решаю.
— И давно стоите?
Воскресенский переступил с ноги на ногу. Из его рваных красноармейских ботинок потекла грязная жижа.
— Да говорите хоть что-нибудь! — крикнул Суходолов, широко открытыми глазами следя, как, подобно живым червям, из ботинок Воскресенского выползает грязь. — Отвечайте: когда вас выкинула пролетарка Мешкова?
Продолжая топтаться на месте, старик посмотрел вокруг себя, потом скользнул взглядом по серому небу и убедившись, что всё осталось прежним, сказал:
—
Со вчерашнего дня. Я сам ушел. Они все хотели.
—
Кто хотел? Мешкова?
—
Все. Чужой я им. Даже кажется: я сам себе чужой.
В груди Суходолова что-то оборвалось. Не выдержав, он обнял старика и прошептал:
— Ты мне не чужой.
Воскресенский с удивлением рассматривал Суходолова, вдруг ставшего до странности близким своими широкими плечами и простым лицом. Всё, и плечи его и лицо, Воскресенский воспринимал как что-то радостное, уверенное, позволяющее думать настоящими мыслями и говорить правдивыми словами.
— Я вам не чужой? — спросил он.
— Вы мой… совсем, совсем родной, — торопливо ответил Суходолов, — близкий. У меня на Тамбовщине отец. Как бы это сказать? Что-то такое легло между мною и отцом. Окончательно.
Правда
легла между нами, и правда навсегда отгородила меня от отца. Назад мне пути нет. И потому вы для меня, как отец.
О многом еще говорил Суходолов, о таком большом и тяжелом, что теперь уже не Воскресенский казался потерянным и конченным человеком. Он как будто окреп, глаза его наполнились такой глубокой мыслью, что, — это уже подумал Суходолов, — стоит лишь Воскресенскому начать рассказывать — всё мутное и спорное сразу же прояснится.
Боясь упустить возможность большого и нужного разговора, Суходолов привел Воскресенского в покинутую им темную и холодную каморку той коммунальной квартиры, в которой верховодила пролетарка Мешкова.
На шорох выглянула Мешкова, но заметив Суходолова, тут же и без звука шмыгнула в свою закуту.
В каморке, кроме сбитого из старых досок топчана, ничего не было.
— Тут где-то коптилка, — сказал Воскресенский.
Суходолов нашел коптилку, поправил фитилек и зажег его. При свете тусклого огонька он увидел на лице Воскресенского глубокие и очень спокойные морщины.
— Я всё понял, — разглядывая эти морщины, говорил Суходолов, — разобрался. В самом себе. Я, знаете, я, ведь, за
ними
сознательно пошел. С верой. Так, как идет слепой за поводырем. Куда поводырь — туда и я. Что поводырь скажет, то я исполнял. А потом… не сразу… мои глаза слепые открывались и открывались, и увидел я, что поводырь мой сплошь в сифилисе. Сволочь, одним словом, поводырь, и вел он меня и всех таких, как я, слепых, против отца, брата, против сына. И я шел. И не год, и не два. Долго шел. Вот это и страшно. Страшно, что у других глаза не открываются. А откроются ли когда — не знаю. Вот в чем страх.
Пока обо всем этом говорил Суходолов, фитилек коптилки обгорел, и теперь уже трудно было разобрать, куда смотрит старик.
— Как же дальше быть? И куда повернется дело? — спросил Суходолов.
Старик печально качнул головой.
—
Неужто так и дальше? Против того, чем жив человек?
—
Я не говорю о вас, — тихо ответил Воскресенский. — О тех говорю, которые остались такими, каким вы были, Они уничтожают прошлое. Рушат всё. И детей своих будут воспитывать в ненависти к прошлому, и это прошлое станут топить в человеческой крови. Что с них возьмешь? Правда, потом, несколько позже, они непоследовательно и глупо возьмутся за лозунги любить
прошлое.
Будут лживо восхищаться древнерусским зодчеством, прошлой литературой, вспомнят церковку князя Суздальского, начнут требовать уважения к Юрию Долгорукому и Александру Невскому, примутся рассуждать о необходимости беречь «исторические памятники» и народные традиции, хранить бережно то, что так легко и просто сберегало, любило, возводило то самое
прошлое,
которое они с беспощадностью уничтожали. И вот что получится: призывая уважать, любить всё это — они будут сознавать, что никто словам их не верит, что все их проповеди — это же вывернутая наизнанку та же самая, начатая ими, ненависть к прошлому, без которой они дальше и не могут жить. Когда я сегодня смотрю на ваших комсомольцев и пионеров, по вашей воле ставших точной копией вас же самих, этих комсомольцев я не обвиняю. Они тут ни при чем. Среда и время формируют человека.
Среда — это те, с кем вы были. А время? Ленинское. Среда и время создали вас и детей ваших. И если они, эти дети, будут продолжать ваше дело, и воспитывать своих детей для продолжения беспощадности, что ж, свою историческую миссию вы завершите с исключительной талантливостью.