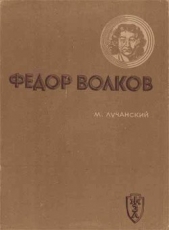Федор Волков

Федор Волков читать книгу онлайн
Роман-хроника посвящен жизни и творчеству Федора Григорьевича Волкова (1729–1763), русского актера и театрального деятеля, создателя первого постоянного русского театра.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Вон! Вон! Вон, Иуда! — закричал Сумароков; он не сдержался и расплакался, бросившись ничком на диван.
— Видно, уходить, — хихикая, издевался Тредьяковский. — Обещанное убивство не состоялось. Прощай, Мигун!
Он отворил дверь и, подмигивая одним глазом комедиантам, продекламировал:
Это… почитай что из Гомера.
Ушел, осторожно притворив за собою дверь. Сумароков вскочил и со сжатыми кулаками бросился за ним.
Комедианты стояли вдоль стенки, смущенные.
С крыльца доносились истерические выкрики Сумарокова, посвистывание и улюлюканье Тредьяковского.
У края трясины
Послеобеденная сцена в столовой произвела на миролюбивых неискушенных ярославцев удручающее впечатление. Было мучительно стыдно смотреть в глаза друг другу, как будто они сами сотворили, что-то в высшей степени предосудительное и позорное. Радостное ликование к вечеру сменилось томительным раздумьем и тоской по тихому, милому Ярославлю. Ребятам становилось ясно, что мир совсем не таков, каким они, в наивной простоте, воображают его себе там, вблизи своего кожевенного сарая.
В особенности остро страдал Федор Волков, лучше разбиравшийся в обстановке и ненавидивший всем своим существом всякое проявление грубости и пошлости. Он знал, что на свете существуют люди и людишки. Невольно тяготел к первым и старательно обходил вторых. В значительной степени это ему удавалось, так как свобода выбора зависела от него самого. Здесь, в подневольном положении, эта свобода была полностью отнята. Знайся с тем, с кем прикажут.
Федор чувствовал себя завязшим на окраине необозримого болота, и завязшим по собственной неосторожности. Это — пока только окраина. Что же будет там, дальше, по мере углубления в трясину? Подумать жутко.
Он готов был бросить все, презреть все последствия, без оглядки бежать назад, — пешком, в мороз и вьюгу, — туда, к брошенному им любимому детищу — сараеобразному театру, к своим милым друзьям — простецким смотрителям.
Его преклонение перед недавним кумиром — господином Сумароковым — испарилось без остатка. Кумир сам постарался об этом. Грубо и безжалостно.
«Буду ли в состоянии играть трагедии, сочиненные господином сим и почитавшиеся мною за гениальные творения? — мучительно копался Волков в охватившем его негодующем раздумьи. — Как смогу произносить мудрые, вдохновенные стихи, испытывать возвышенные страсти? Ведь образ господина сочинителя живым передо мною стоит, — его теперь из души топором не вырубишь. Он будет мерещиться мне и за Хоревым возвышенным и за Гамлетом благородным… Возможно и мыслимо ли такое совмещение мыслей и чувствований великих, гению свойственных, и поступков обыденных, для потерянного подъячего зазорных? А тот, другой — что он? Бесстыдник изверившийся? Злая рука, сладострастно чужие раны бередящая? Лисий хвост и волчий зуб вместе? Зеркало, свою трясину отражающее?»
В дверь постучали.
— Резрешается войти?
— Ах, пожалуйста, пожалуйста, прошу! — любезно ответил Федор.
Вошел, насмешливо улыбаясь, Бредихин.
— Да я вам не в помеху? Прямо говорите. Я ведь так, без надобности. Поболтать захотелось. Могу и в другой раз.
Федору понравилось открытое, насмешливо-приветливое лицо молодого сержанта.
— Я очень рад, Андрей Никитич. Располагайтесь, как вам удобнее. И вообще — какие там разрешения? Входите без спроса, когда вам понадобится. Хозяин — вы, а мы — гости.
— Э, нет, сие не дело, — произнес Бредихин, усаживаясь в свободные кресла по другую сторону стола. — Чинить стеснения — не в моих правилах.
Помолчали. Бредихин, покачивая головой, усмехался себе в воротник и щурил насмешливые глаза. Несколько раз молча взглянул на Волкова.
— Глупая потеха неглупых людей, Федор Григорьевич.
— Вы это о…
— Ну, а то о чем же еще? Вечная наша комедия улыбальная. Точно торговки блинами: как сойдутся, сейчас и подерутся. Ноне еще благополучно, без драки обошлось. Должно, из уважения к приезжим.
— А хорошо ли оное, Андрей Никитич? Как на ваш взгляд привычный?
— Что хорошего? Пакость! А как на ваш взгляд, на непривычный?
Волков только рукой махнул:
— Не спрашивайте!
— Понимаю я вас. С непривычки должно быть тошнотно. Ну, ничего. Обживетесь — все будет мягче представляться.
Федор Григорьевич с сомнением покачал головой.
— А все торговое соревнование виновато, — заговорил снова Бредихин. — Каждому кажется, что его блины горячее. За славу лучшего блинопека носы друг дружке готовы откусить. У Кирилыча-то, действительно, что ни блин, то комом. На подмазке больше выезжает. Иначе совсем несъедобно было бы. А ведь Александр Петрович наш — талант и умница. Прирожденный блинопек… то есть, стихотворец, я хотел сказать. Душа в мире, им созданном, витающая. Доброты человек непомерной. Совести неподкупной. А ведет себя, как школяр задиристый. Я его понимаю. В Кирилыче он презирает больше всего натуру его ужиную. И раздражается от непомерной того извилистости. Да вы не думаете ли, что эта баталия ихняя всурьез или надолго? Пустое! Поди, где-нибудь уже вместе, обнявшись, сидят. Хоть у того же Михаилы Васильича Ломоносова. Тот-то посдержаннее будет. Умеет вес себе придать и почтение внушить. Умница. От грызни с мелкотой за кости обглоданные, шуткой да балагурством спасается. Чуть что — шмыг в кусты, как бы играючи. А коли уж непереносно станет — в рюмочке тоску топит.
— Тоже занятие не весьма почтенное, — заметил Волков.
— Вам это трудно понять. Не знакомы еще с населением болотца нашего, с его мошкариными повадками. Ведь у нас как? Каждый другому обязательно в нос лезет, щекочет его и раздражает. Наблюдали вы когда пляску мошкары над болотом в неподвижном воздухе? Перед грозой обычно бывает… Так вот и наша жизнь — такая же мошкариная. Все нелепо толкутся, пляшут, жалят друг друга и радуются, что ужалить посчастливилось. А в центре как бы матка мошкариная в стайке трутней вальяжничает. Ну, вся мелкота к ней в соседство и пробирается. Лестно все-таки.
— Вот тут бы людям посерьезнее и создать этакую струйку освежающую, чтобы мошкара не дюже грудилась, — улыбнулся Федор понимающей улыбкой. — И их бы существование было оправдано.
— А вы полагаете, эта туча однодневок такую струйку почувствует? Голубчик! Здесь ливень грозовой потребен, с градом каменным! Чтоб в мертвую слизь обратить всю эту толчею бестолковую…
Помолчали. Федору Волкову все больше начинал нравиться откровенный и, как видно, умный сержант.
— А Александра Петровича судить преждевременно остерегитесь, — прервал молчание Бредихин, задумчиво выстукивая пальцами на столе какой-то марш. — Он тут многим в носу щекочет из стаи мошкариной. Жалить мастер. И Ломоносов также. Да, пожалуй, и Кирилыч отчасти. Все это — материя бродильная. А когда люди застой и неподвижность за счастье для себя почитают, брожение — вещь докучливая и для мошкары неприятная, порядок пляски расстроить грозится. Людей-то просвещенных у нас раз, два и обчелся. Да и те прячут свою просвещенность под чудачествами разными, чтобы не быть очень уже смешными в глазах дикарей. И дикари в простоте душевной полагают, что быть просвещенным это и значит быть чудаком. И то уже благо, что какая-то тень уважения к просвещению все же чувствуется.
Бредихин поднялся и посмотрел в темное окно.
— Какие надежды ваши на будущее, Федор Григорьевич? — спросил он после молчания.
— Никаких, как есть, — грустно улыбнулся Волков.
— Самое правильное. Разочарованности избегнете. Да и какие надежды может внушить трясина честному человеку? Ну, извинения прошу за время отнятое.
Он протянул руку Федору. Задержал его руку.
— Хочется мне совет один вам подать, да не знаю, уместно ли.
— Отчего же неуместно? — улыбнулся Федор.