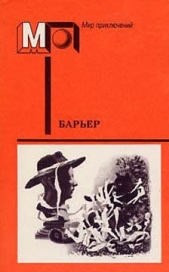Яблоко Невтона

Яблоко Невтона читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Никто ничего не знал и не видел. Одна лишь река могла сказать… Но старый Чарыш, перегруженный коренными июньскими водами, спокойно и равнодушно бежал мимо, неусыпно и строго храня эту тайну.
20
Работу свою капрал Беликов провернул ходко — достало двух дней, чтобы провести дознанье по «делу» шихтмейстера Ползунова, затеянному повторно. Капрал допросил печника Зеленцова, сотворившего своеручно, в союзе с Вяткиным, тот злополучный горн, от которого, по увереньям доносчиков, и случился пожар. И остался доволен тем, что Ефим Зеленцов не запутал и не усугубил дела своим показаньем, а, напротив, окончательно прояснил.
— Нет, господин капрал, — сказал он без малого колебанья, — возгореться от горна не могло, бо стоял он, тот горн, посреди избы и стен не касался.
Вот и все! На том Семен Беликов и поставил точку, считая, что лучшего знателя, чем печник Зеленцов, найти невозможно, а стало быть, и не надо искать. К тому же и Бухтояров, староста судной избы, где капрал заседал и вел дознанья, прибавил весомо: Зеленцов мужик серьезный — и верить ему можно.
Так и отпал первый, заглавный пункт обвинения. А по второму, весьма деликатному, капрал, слегка тушуясь, выслушал Пелагею Ивановну, спросив, каковы у них с шихтмейстером Ползуновым отношения. Пелагея глянула удивленно, плечами повела:
— Господи, Семен Петрович, да неужто тебе неизвестно?
Беликов еще больше смешался, но стоял на своем:
— Известно, Пелагея Ивановна. Токмо ныне я не свободное лицо — и ответ ваш не для меня лично, а для приказной бумаги надобен, — пояснил. И чтобы разговор облегчить, подкинул вопрос наводящий: — Вот тут в записке, — придвинул бумагу, — шихтмейстер Ползунов называет вас женкой служивою, то есть служанкой не крепостной, а нанятой… Это как объяснить?
— А никак! Это ж его слова, он и объяснит, коли захочет, — сухо ответила Пелагея, мельком глянув на ту бумагу и тотчас узнав почерк мужа. — А я вот другое скажу, — помедлив, голову вскинула. — Три года назад, по обоюдному сговору, выехали мы с Иваном из Москвы в Барнаул, с тех пор и живем, ни от кого не прячась, у всех на виду… А что не венчанные — то наша вина, грех перед Богом, нам и достанет тот грех искупать. Надеюсь, иного и Ползунов не скажет, — добавила твердо, называя мужа подчеркнуто по фамилии, похоже, не столь для капрала, сколь для протокольной бумаги.
— И я надеюсь, — кивнул одобрительно Беликов, аккуратно записывая. — Потому и советую поскорее уладить эту докуку.
— Уладим, — покладчиво заверила Пелагея, чуя нутром, подспудно угадывая, что нынешняя невзгода, как тучка, развеется, минет, обойдет их стороной — и не ошиблась.
Капрал Беликов поработал усердно — и невзгоду отвел: из пяти пунктов доноса, обвинявшего шихтмейстера чуть ли не во всех смертных грехах, четыре обвинения были сняты, закрыты по ходу расследования, как пустые и облыжные, осталось лишь одно, впрочем, самое злое и чувствительное — незаконность сожительства Ползунова с Пелагеей… Но тут, как говорится, выше головы не прыгнешь. Факт очевидный и скрыть его невозможно. Да никто и скрывать не хотел — ни сам допытчик, явно благоволивший к своему приятелю, ни шихтмейстер с женою, коим оставалось только одно — узаконить свой брак венчаньем.
Ползунов и хотел это сделать незамедлительно. Однако неоправданно и с промашкою заспешил. И тут появилась еще одна загадка, не менее странная, чем в случае с дворовою девкой Парашкой, то ли, по наущенью шихтмейстера, сбежавшей неведомо куда, то ли с отчаянья лютого и вправду канувшей в чарышские воды… Поди разберись! Да и кто бы стал разбираться?
Теперь же шихтмейстер, спеша узаконить свой брак с Пелагеей, обратился не в Канцелярию горного начальства, с ведома которой только и можно получить так называемую «венчальную память», а написал письмо своему другу Дмитрию Хлопину, в котором просил «оную память учинить», иными словами, достать разрешение на венчанье любыми путями, в том числе и за взятку, коли понадобится, для чего к письму были приложены деньги. А почему Ползунов избрал столь странный и затруднительный путь — остается только гадать. «При том же оную память учинить прошу так, дабы в оной надпомянуто было священнику Кособоковского села или находящемуся при Колыванской церкви, — доверительно разъяснил. И просил: — А письмо мне возвратить. Сына же вашего, Яшутку, — как бы вскользь, мимоходом сообщает Хлопину, — я намерен с собою в Колыван взять».
Последнее — рядом со всеми просьбами — как некий намек: вот, мол, как я радею за вас, порадей, мой друг, и ты для меня.
И Хлопин сделал все, что мог, возможно, малость и переусердствовал. Одно неясно — куда пошли деньги, присланные Ползуновым? Переданы ли были кому-то из рук в руки в духовном правлении, оставил ли Хлопин при себе, на всякий случай… Но скорее всего — вернул Ползунову, когда «сговор» всплыл наружу — и тайное стало явным.
Так или иначе, но венчальную память Хлопин достал. И вздохнул облегченно, загодя радуясь за своих друзей, Ивана да Пелагею, теперь у них — гора с плеч! Однако радость была недолгой. В тот же день Хлопину велено было явиться к самому Христиани. Зачем? — екнуло сердце. А голова подсказала: дознались! Вот с этим опасением и предстал Хлопин перед начальником заводов.
— Ну, голубок, выкладывай, — без лишних оговорок потребовал Христиани, глянув строго.
— Что, ваша честь… выкладывать? — вильнул было Хлопин.
— И не прикидывайся. Мне все известно, — не повышая голоса, упредил Христиани. — Бумаги выкладывай. Венчальную память для шихтмейстера Ползунова, кою раздобыл ты в обход Канцелярии… Что там еще у тебя?
Хлопин помертвел от растерянности, потом его бросило в жар: донес кто-то! Но кто? Неужто кто из духовников? А более некому. Но это уже не имело значения — и запираться не было смысла.
И Хлопин выложил все, как велел асессор: и венчальную память, которую не без труда раздобыл, и даже письмо Ползунова, которое тот просил вернуть… Письмо, наверное, можно было и утаить, не разглашать, но Хлопин так растерялся и так был убит происшедшим, что и сам не ведал, что делает.
Можно представить, в каком состоянии вышел он из кабинета начальника заводов, не вышел, а вывалился, будто из бани, весь в жарком поту, думая лишь об одном: все погибло! И что теперь будет с Ползуновым, какие кары обрушатся на него?
А Христиани в тот миг кипел негодованием, не будучи в силах понять странной выходки шихтмейстера: почему тот сразу не обратился в Канцелярию? Сам себе ставит рогатки, — подумал асессор. И в тот же день заготовил указ, требуя от шихтмейстера письменного объяснения своего поступка, а также ясного толкования — кем все же является Пелагея Ивановна Поваляева: женкой ли чьей-то чужой или вдовой… но не «девицей» же, как указано было в «венчальной памяти», лежавшей теперь на столе асессора.
Казалось, новой грозы не миновать. Строгий саксонец не потерпит сей кривды — и спросит с шихтмейстера по всем статьям. Так думал и Ползунов, читая доставленный курьером указ, но, к удивлению, оставаясь при этом спокойным и равнодушным. Как будто указ не его касался, а кого-то другого — так он устал от всех нынешних доносов, поносов и всякой другой мути, мешавшей жить и работать в полную меру. Он понимал, что ныне многое, если не все, будет зависеть от того, с какой ноги встанет асессор Христиани, но как он поступит и что решит, Ползунову казалось безразличным, ибо отныне он полагался только на Бога — и верил, что Бог не выдаст, поможет… А коли случится обратное — что ж, как говорится, лучше пострадать за добрые дела, нежели за лихие…
Потому и не стал Ползунов сочинять длинной реляции, объяснять свои подвиги, а написал разгонисто-твердым и крупным почерком коротко и ясно: «Пелагея Поваляева вот уже тому три года как моя жена, чего я никогда не скрывал и впредь скрывать не сбирался, а потому, господин асессор, покорнейше вас прошу вернуть мне «венечную память». В протчем пребуду вашему благородию доброжелательным слугою».