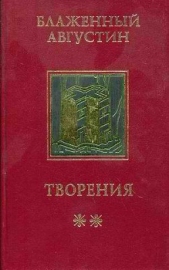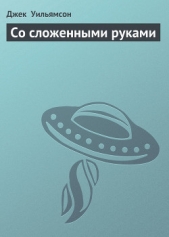Сиротская доля
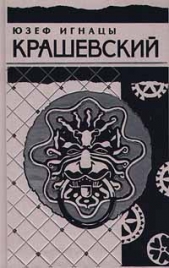
Сиротская доля читать книгу онлайн
Польский писатель Юзеф Игнацы Крашевский (1812 - 1887) известен как крупный, талантливый исторический романист, предтеча и наставник польского реализма. В седьмой том Собрания сочинений вошли повести `Сиротская доля`, `Король хлопов`
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Не прогоняйте меня, — сказала она, — я не буду вам надоедать, а потом… по выздоровлении, вы снова уйдете от меня.
— О, нет, — отвечал слабым голосом Мечислав, — никогда я не уйду от той, которой столько обязан, вы имеете право на вечную мою благодарность. Вы спасли мне жизнь, и признательность моя принадлежит вам до могилы… Вы с Люсей не дали мне умереть.
Пани Серафима посмотрела ему в глаза, словно желала прочесть в глубине души. Мечислав смутился и замолчал. Каждый раз, когда он встречал ее взгляд, по какой-то странной ассоциации просыпалась в нем память об Адольфине, но воспоминание это рождало в душе бурю и тревогу, в то время когда голос и глаза вдовы действовали на него успокоительно. Эти ежедневные неусыпные заботы, эта предупредительность сблизили их, и Мечислав, поправлявшийся с каждым часом, чувствовал к ней самую нежную привязанность. Люся смотрела на это со слезами, какая-то тревожная, молчаливая, почти с завистью. Вдова пренебрегала общественным мнением, проявляла такую близость к Мечиславу и Люсе, что все они как бы составляли одно семейство. Это совершилось незаметно, постепенно, но каждый чувствовал, что расстаться было бы для них тяжело… что они связаны навсегда.
Может быть, пани Серафима, надеялась, что Мечислав еще более ободрится, что чувство, которое он, очевидно, питал к ней, вырвется из его уст… но и само молчание имело для нее значение, и она нисколько не огорчалась им. Она видела, что внушила привязанность, а не страсть; это ее успокоило, и она надеялась, что остатки этого льда растают со временем от одного слова.
В душе Мечислава, пробуждавшейся после горячки к новой жизни, было не так спокойно. Как ни думал он, а не мог понять себя. Сердце его словно разорвалось на двое…
Воспоминание об Адольфине стояло рядом с образом женщины, в которой он чувствовал любовь спокойную, благотворную, за что и платил искренней привязанностью. Он прилагал все усилия, чтоб позабыть одну, а к другой не мог быть равнодушным.
Люся тоже постоянно говорила ему о вдове (когда ее не было) и относилась к ней не то что с признательностью, но с обожанием…
Когда Мечислав начал вставать и прохаживаться сперва по комнате, потом по балкону и, наконец, по саду, заботливость хозяйке удвоилась. Почти забытый дядя смотрел на это со смирением и какою-то грустью, но уже не говорил ничего. Ему казалось каждую минуту, что все это должно окончиться решительным объяснением. Пани Серафима, однако, не могла вымолвить этого слова, а Мечислав не смел и даже не допускал, чтобы мог когда-либо его выговорить… хоть и знал, что за это не был бы наказан. Впрочем, несмотря на все доказательства дружбы, он дальше этого не стремился, и каждый раз, когда ему грезилось нечто больше или сестра намекала ему как-нибудь двусмысленно о будущем, он молчал, словно в испуге. Отношения их были нежнее, чем перед болезнью, но нимало не изменились… Всем им было хорошо в этом положении… все боялись перемены.
Только Мечислав с возвратом сил чаще начал поговаривать о поездке в город. Пани Серафима противилась.
— Вы не можете еще ехать, повремените.
Люся, беспокоясь о брате, не настаивала, а время летело немилосердно быстро.
Граф к осени начал собираться за границу. Пани Серафиме и его хотелось бы удержать, но старик принадлежал к числу тех людей, которые не изменяют своих намерений.
— Милая моя, — сказал он ей как-то перед отъездом, — я должен тебя предостеречь по-родственному, что ты находишься в фальшивом и двусмысленном положении. Выйти замуж за честного и отличного человека, как пан Мечислав, ты имеешь полное право, но оставаться долее при этой дружбе, которую люди Бог знает как могут перетолковать, невозможно. Необходимо это окончить решительно раз и навсегда.
— Конечно, — отвечала вдова, — я вполне разделяю это мнение, но не в моей власти ускорить или самой навязываться!
— Уладить это должна сестра, — возразил граф, — можешь дать ей понять, о чем, впрочем, все знают и что должно быть давно ей известно. В их положении трудно сделать первый шаг, необходимо им облегчить его.
— Согласна, — отвечала пани Серафима, — но, признаюсь вам, что если б я даже рисковала возбудить осуждение толпы, на которое мало обращаю внимания, мне не хотелось бы ни настаивать, ни ускорять… Нам хорошо как есть, я почти счастлива… Для меня в них какое-то обаяние, происходящее, может быть, от неуверенности в будущем, от боязни утраты, и я как-то странно боюсь решительной минуты. Пусть же все это идет себе до того момента, когда невольно вырвется слово и разрешит судьбу.
Граф больше не настаивал и уехал. Он очень полюбил Люсю и Мечислава, считая уже последнего почти родственником, так он был убежден в предполагаемой развязке.
А между тем ничто ее не предвещало. Больной выздоравливал, и теснейшие отношения, возникшие во время болезни, уступили место обычным формам жизни, — остались только искренний сердечный тон и нежная дружба. Мечислав очень остерегался, чтобы пани Серафима не узнала о его крайней нищете. Ничего он так не боялся, как помощи какого-нибудь, а следовательно, и унижения. А между тем каникулы подходили к концу, надо было возвращаться в город. Он постепенно выздоравливал, но и на лице, и на душе остались следы после тяжкой болезни. Мечислав был менее отважен, менее ревностен, не так уже верил в свою будущность. Его поддерживала только Люся.
Пани Серафима тоже захотела возвратиться в город, и они все выехали вместе.
Почти уже перед отъездом Мечислав подошел к хозяйке.
— У меня недостает слов, — сказал он, — выразить всю нашу признательность за всю вашу доброту к сиротам, которым вы заменили семью, познакомили с тем, чего они в жизни не испытывали, примирили их со светом, сделались для них ангелом-хранителем.
— Пан Мечислав, — отвечала вдова, — вы заплатили мне с избытком, я также была сиротой, а вы и сестра стали для меня семьей… Верьте, что скорее я должна благодарить вас, нежели вы меня. С вами я научилась любить жизнь.
В дороге она взяла слово с обоих, что в городе они будут видеться как можно чаще, насколько позволят занятия Мечислава.
— Считайте мой дом своим собственным, — повторяла она постоянно, — не покидайте меня, потому что я привыкла к вам и мне было бы тяжело…
Мечислав и Люся застали старуху Орховскую очень слабой: бедняжка заболела, узнав о катастрофе со своим воспитанником. Не могла уже она служить им, как бы хотела. Люся живо принялась заменять ее и выручать. Мечислав немедленно побежал к Вариусу поблагодарить его и навестил товарищей. Он был принят довольно приветливо.
Только Поскочим встретил его с обычным цинизмом.
— Ты похудел на вдовьем хлебе, — сказал он, засмеявшись, — он не каждому полезен, как говорит пословица.
Студент Зенон явился к Люсе со всем пылом первой страсти, но она приняла его так холодно, что он ушел с отчаянием. Застал также Мечислав письмо от пана Пачосского, в котором тот уведомлял, что Мартиньян, несмотря на строгое запрещение матери, порывается ехать для свидания с Люсей. Поговорив с сестрой, Мечислав отвечал поспешно, что кузен не застанет ее и не будет видеться с нею.
Из письма педагога, а также и от пани Серафимы они узнали о скорой свадьбе панны Адольфины. Известие это Мечислав принял внешне хладнокровно, будучи к тому приготовлен, но дня два ходил молчаливый и убитый, так что Люся и Серафима боялись возврата болезни. Труд, если не излечил его, по крайней мере отвлек от этих печальных мыслей, и молодой человек погрузился в учебу с головой.
Если б мы сказали, что год прошел без всякой перемены, то почти не погрешили бы против истины.
Пережить этот год было очень трудно; занятия поглощали все время у Мечислава, который с трудом зарабатывал на кусок хлеба. Люся тоже трудилась с утра до вечера, потому что старуха Орховская постоянно болела. Запечалилась и Люся, смотря со страхом на приближавшийся срок уплаты долга. Она считала последние дни свободы, ибо предчувствовала, что ожидало ее в будущем. Но никому не могла доверить этой боязни и страдала молча. Лицо ее тоже утратило юношескую свежесть и прежнее обаяние и покрылось бледностью. Это не ускользнуло от внимательного Вариуса, который постоянно прописывал ей лекарства; но это не помогало. Люся становилась грустнее и грустнее, и напрасно допытывалась пани Серафима, стараясь угадать страдания души, ставшие причиной телесного нездоровья.