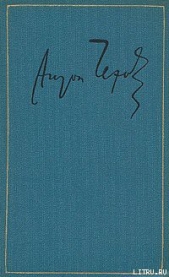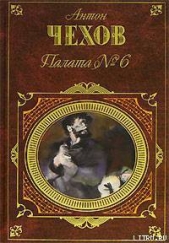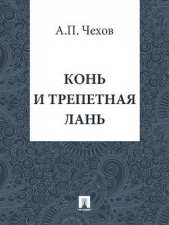Ранние сумерки. Чехов
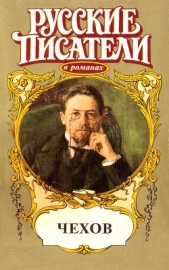
Ранние сумерки. Чехов читать книгу онлайн
Удивительно тонкий и глубокий роман В. Рынкевича — об ироничном мастере сумрачной поры России, мастере тихих драм и трагедий человеческой жизни, мастере сцены и нового театра. Это роман о любви земной и возвышенной, о жизни и смерти, о судьбах героев литературных и героев реальных — словом, о великом писателе, имя которому Антон Павлович Чехов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поклон, привет и всякую прелесть желаю твоим.
Твой Левитан VII Нибелунгов.
За глупость прости, сам чувствую, краснею!»
Дошло до того, что написал ей от имени сестры в виде шутки, своим почерком:
«Чехов — Мизиновой. 31 июля, Богимово.
Милая Лика!
Если ты решила на несколько дней расторгнуть ваш трогательный тройственный союз, то я уговорю брата отложить свой отъезд. Он хотел ехать 5-го августа. Приезжай 1 или 2-го. С нетерпением ждём.
Ах, если б ты знала, как у меня живот болит!
Любящая тебя М. Чехова».
Роман в письмах закончился. Она не приехала и больше не писала. Финальный эпизод произошёл недобрым августовским утром после ночной грозы: пришла Маша и сказала, что из Покровского приехала подруга горничной Лены с интересными новостями.
— Она служила у Панафидиных, — рассказывала Маша. — Её и к Левитану в Затишье посылали. Всё случилось у неё на глазах. Сначала Исаак и Лика встречались тайком, но Софья Петровна узнала. Была сцена, и Софья уехала. Левитан перебрался в Покровское, снял там дачу, и Лика теперь даже ночует у него. Эта девушка заставала их в постели. Хочешь с ней поговорить? Нет? Ты... ты хорошо себя чувствуешь?
— Я себя чувствую, как автор повести, которую давно ждут в редакции...
XXXIV
Сестра ушла, и его охватил долгий приступ кашля, раздирающего грудь. Боль впивалась в сердце, туманила голову, отравой разливалась по всему телу. Страдания молодого Вертера — это не страдания любви, а страдания уязвлённого самолюбия. Потому Наполеон и брал в походы роман Гёте и перечитывал его семь раз. Обжигает стыд, и приступы кашля возобновляются и усиливаются с каждой новой картиной, возникающей в болезненной памяти. Ходил вдоль этих окон, идиотски улыбаясь, представляя золотистые кудри на своей подушке. Рисовал в письме сердце, пронзённое стрелой. С наивным спокойствием читал письмо Левитана о его любовных подвигах. Всё началось с меблированных комнат...
Стыдиться своих поступков — это стыдиться людей, знающих о них. О его постыдных сладеньких мечтах не знает никто, и стыдиться приходится самого себя. От истерического сожаления, что ты упустил некую радость, некое удовольствие, не так уж трудно избавиться. Страшно узнать, что ты оказался не тем человеком, каким себя считал. Не тем красивым талантливым писателем, перед которым не могла устоять ни одна девица, а ничтожным неудачливым болезненным беллетристом, унылым, преждевременно старящимся мечтателем. Девушку, предназначенную тебе, придуманную тобой, легко соблазнил плешивый еврейчик. В прошлом году написал всего один средний рассказ, и в этом году только один и тоже средний — вряд ли рассказ «Бабы» о несчастной Маше очень взволнует русскую общественность.
Роман не получился ни в жизни, ни на бумаге. Бесплодные мечтания о любви заглушили даже врождённое художественное чутьё и профессиональную писательскую интуицию: если тебя восхищает то, что ты написал, если нет желания что-то улучшить, дописать, убрать, значит, всё перечёркивай и начинай сначала. Лишь та проза хороша, которая снова и снова показывает твоё бессилие написать всё, что ты хочешь. Трудность не в том, чтобы написать хорошо, а в том, чтобы написать именно то, что ты хочешь. «Дуэль» казалась прекрасной прозой: Кавказ, превратности любви, дуэль. Всё это любит русский читатель со времён Лермонтова и Бестужева-Марлинского [38]. Но Лермонтов не прятал за кустом на месте дуэли попа-миротворца, не мирил Печорина с Грушницким, не хоронил мужа Веры, чтобы соединить влюблённых в счастливом браке и уничтожить величайший русский роман.
Со страниц рукописи выпирает прямое подражательство. «Нелюбовь Ладзиевского к Надежде Фёдоровне выражалась главным образом в том, что всё, что она говорила и делала, казалось ему ложью или похожим на ложь... Ей казалось, что все нехорошие воспоминания вышли из её головы и идут в потёмках рядом с ней и тяжело дышат, а она сама, как муха, попавшая в чернила, ползёт через силу по мостовой и пачкает в чёрное бок и руку Ладзиевского...» Это не Чехов, а Лев Толстой.
Теперь он будет писать другое — не придуманное в спокойные утренние творческие часы, а рвущееся из оскорблённой души.
Садиться за работу надо с холодной головой, и, приведя себя в порядок, предстал перед ожидавшим его моряком с видом человека, находящегося в хорошем настроении. Тот ожидал его внизу, в комнате у лестницы. Его лицо показалось странно знакомым. Именно «странно»: он был уверен, что никогда не встречал этого человека, и в то же время был убеждён, что недавно видел его простое замкнутое лицо с осторожными светлыми глазами.
— Мичман Азарьев Николай Николаевич, — представился знакомый незнакомец и, заметив непонимание в глазах Чехова, объяснился подробнее: — В Петербурге к вам обращалась моя родственница Софья Карловна Гартнунг. В «Новом времени».
Всё вспомнилось и стало понятным, в том числе и фото, которое он послал в письме туда.
Уверил мичмана в том, что говорил о его деле с Сувориным, дважды посетившим Богимово, и тот обещал помочь через Главный морской штаб. Мичман объяснил, что гостил в Калуге у родственника, который хорошо знал Былим-Колосовского, собрался к нему по какому-то делу, и он поехал с ним, узнав, что здесь проводит лето Чехов.
— Где бы вы хотели продолжить службу, Николай Николаевич?
— Моя мечта — Дальний Восток.
Не улыбнулся, не смягчил непроницаемость лица и холод взгляда. Так он сам сказал бы, что его мечта — великая пьеса. Только он никогда никому не скажет о своих тайных мечтах.
— Послушайте, но Дальний Восток заберут китайцы. Я был там прошлым летом и понял, что мы всего лишь гости, а они — коренное население. Конечно, сами китайцы ничего не сделают, но на их стороне будут какие-то силы. Может быть, англичане.
— Японцы, — убеждённо сказал мичман. — Они строят флот. Мы будем защищать Россию на востоке. Там — настоящая служба.
Из дальнейшего разговора выяснилось, что Азарьев — потомственный моряк, никакой личной жизни у него нет — для него всё это нечто второстепенное, смысл его жизни — служба, исполнение долга перед Россией. Казалось бы, что общего у писателя Чехова с этим служакой, но в молодом моряке он узнавал своё, близкое, понятное, чего нет в приятелях-литераторах. Для него тоже всё было второстепенным, кроме литературы. Когда-то в молодости он был уверен, что у каждого человека есть нечто главное, то, что он ценит более всего, то, ради чего он живёт, — служба, наука, искусство, но, к сожалению, оказалось, что абсолютное большинство живёт просто для того, чтобы жить, то есть иметь семью, деньги (это главное), дом, ещё что-то... Только не знают, зачем это всё. Наверное, им всем было дано от природы нечто такое, высшее, ради чего стоит жить и бороться, но они забыли, растеряли, променяли на чечевичную похлёбку. Мичман Азарьев не потерял, не променял — он знает, зачем живёт.
Мичман был участником недавнего события, прогремевшего на весь мир: в ознаменование союза между Россией и Францией в Кронштадт прибыла французская эскадра. Он рассказывал о прекрасной погоде, о многочисленной публике, прибывшей на пароходах из Петербурга.
— Я никогда в жизни не видел и, наверное, не увижу столько цветов и флагов над морем. По-моему, французских флагов было даже больше, чем русских. В газетах вы, конечно, читали, что адмирал Жерве шёл на «Маренго», и едва эскадра показалась, как заиграли гимны. И знаете, по-моему, больше играли «Марсельезу», чем наш. Потом на «Маренго» прибыл наш старший на рейде — и подняли русский флаг. А о том, как мы опозорились, в газетах писали мало: посадили «Маренго» на мель и почти до вечера мучились — снимали.
— Послушайте, значит, франко-русский союз сразу сел на мель?
— Получается так. Потом были встречи, обеды. На другой день я имел честь быть в охране государя, когда он посещал «Маренго». Он пробыл там двадцать минут. Ему показывали вращающуюся орудийную башню.