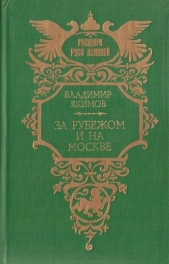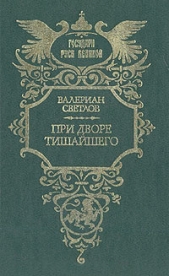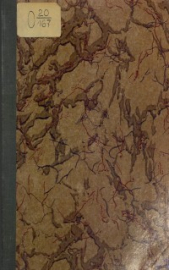При дворе Тишайшего. Авантюристка

При дворе Тишайшего. Авантюристка читать книгу онлайн
Перед вами два исторических романа замечательного русского писателя Валериана Яковлевича Светлова (1860–1934).
В увлекательнейшем произведении «из времен царствования Алексея Михайловича» «При дворе Тишайшего» В. Я. Светлов сумел увидеть историю по-новому, настолько интересно воссоздать жизнь людей того времени, с их радостями и горестями, переживаниями и раздумьями, что целая эпоха предстает перед читателями так, будто она раньше была ему неведома.
Несколько поколений вглядывались в Кунсткамере в черты лица женщины, голову которой столь безбожно долго сохраняли для обозрения, и с интересом познакомились бы с тем, как представил писатель в романе «Авантюристка» жизнь этой преступно известной фрейлины петровского времени.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Лицом-то вся в него, вся в него, только глаза да волосы матери! Барское дитя, что и говорить!
Все эти разговоры, вздохи и ахи отзывались в чуткой душе девочки и заставляли ее внимательно вглядываться в окружавшее ее…
— Так слушай же! — продолжала Мара. — Купил он меня силком, против воли моей, у нашего табора. Я была дочерью богатого и набольшого цыгана; весь табор ему подчинялся; я вышла красой на славу. Матери я не знала с трех лет; увез ее кто-то от нас, она сбежала в табор, да сил много в том беге потеряла и скоро скончалась. Отец любил меня, а… все-таки продал! Так требовал табор! Большие деньги за меня дали. Я была невестой: цыгана молодого любила, любила больше жизни, больше воли, и он любил меня! — Мара замолчала, закрыла глаза, и на ее лицо легла такая мука, что у маленькой Марфуши сердце в груди перевернулось. — Когда продали меня, Зардай повесился… О том сказала мне одна цыганка долго-долго спустя. Тебе не понять теперь, как я страдала, идя в неволю, покидая родимые степи и милого друга. Боярин Хованский много денег дал за меня, обещал и жениться. Крепко любил он тогда меня, сперва жизни за меня не пожалел бы, да противен он мне был, постылый — хуже смерти. Руки на себя пыталась я наложить, да спасали, а потом караулить стали. Вскоре и ты родилась… Отошла я… Сперва ты мне ненавистна была, а как увидала я тебя, маленькую, слабенькую, так полюбила я тебя, горемычная, всем своим сердцем несчастным.
Марфуша припала, благодарная, к рукам матери…
— А он, — продолжала Мара уже слабеющим голосом, — боярин Дмитрий Федорович, отец-то твой, все любви моей домогался, в ногах у меня валялся, руки мне целовал… Ну… и полюбила я его! За тебя ли, за сироту, за жизнь ли свою разбитую, но полюбила!.. Зардая забыла… Утихла мысль о нем, и стал люб мне отец твой! Думала, он и вправду меня своей женой сделает, и ты счастлива будешь! Но, видно, душа Зардая покоя нигде не находила и мне покой дать не хотела. Не долго боярин тешился любовью моей; о женитьбе он речей уже не заводил, скоро другую зазнобу нашел, а теперь вот, сказывают, женится!.. — И она заломила свои пальцы так, что они хрустнули.
— Мамка, ты еще любишь его?
— Теперь не люблю, — страстно ответила цыганка. — И ненавижу, ненавижу, Марфуша… Я мстить ему за жизнь свою, за Зардая хочу! Помоги мне! Марфуша, дочь моя, ненаглядная!.. — Она схватилась за грудь, в которой уже давно что-то клокотало и переливалось, и сильно закашлялась; обильный пот смочил ее лоб и виски. — Неужели умереть не отомстив? — едва слышно прошептала она.
Марфуша чутьем угадала эти слова, вылетевшие из запекшихся уст кончавшейся матери, и заметалась по комнате, ища, чем помочь умирающей; но как раз в это время отворилась дверь, и в нее кряхтя вошел сам боярин. Марфуша навек запомнила и выражение лица надменного боярина, пришедшего доконать свою жертву, и его красный, из дорогого сукна кафтан с зеленым кушаком, и сафьяновые сапожки на ногах, и даже шапку из «скунцев», которую он снял при входе, тряхнув своими белокурыми кудрями. Он хотел перекреститься, но, вспомнив, что в избе не было образов, махнул рукой и криво усмехнулся.
От этой улыбки затрепетало сердечко Марфуши, и она пугливо прижалась к матери.
Мара упала на белые подушки; на ее щеках горело два ярких красных пятна, глаза лихорадочно блестели, а из тяжело вздымавшейся груди вырывалось горячее дыхание, перемешанное с хрипами. Она встретила вошедшего страстным взором; он, поймав этот взгляд, чуть отшатнулся от нее и насупился.
— Здравствуй, Мара, — сказал он, стараясь придать своему лицу и голосу приветливость.
Она охватила его руку и медленно поднесла ее к своим горячим губам.
По телу боярина пробежала дрожь. Эта женщина, когда-то страстно любимая им, теперь подурневшая, постаревшая и больная, возбуждала в нем только отвращение; чувство жалости не было знакомо ему…
— Вышли девчонку, — произнес он, отдергивая руку.
Мара посмотрела на дочь, и та поспешно юркнула в соседнюю горенку, откуда ей было слышно, что говорили ее родители; эти слова глубоко запали ей в душу и заронили чувство непримиримой ненависти к тому, кого она должна была уважать и любить, как отца…
Хованский хмуро и неуверенно заговорил о том, что ему не хватает в доме помещения для охотников за соколами; что он хотел было выстроить новую избу, да места не хватает около его хором, а за охотниками нужен глаз да глаз…
Мара слушала его молча; только в ее глазах зажигались огни ненависти и оскорбленного самолюбия; она уже догадывалась, к чему клонилась речь Хованского, но еще не перебивала его и не приходила ему на помощь.
Это разозлило боярина, и он сердито крикнул:
— Ты что, словно истукан венецийский, молчишь?
— Выгоняешь, стало быть? — пристально смотря ему в глаза, злобно спросила больная.
— Не гоню я, а говорю, может, в слободу переберешься?
— Зачем мне переезжать? — издеваясь над его видимым смущением, проговорила цыганка.
— Зачем… зачем! — опять вспылил боярин. — Сказываю, для охотников…
— Совесть-то еще в тебе есть… — совладав с приступавшими к горлу слезами, проговорила Мара. — В глаза-то смотреть мне не можешь… И лжешь, лукавишь, правду сказать сразу не можешь.
— Я правду говорю.
— Лукавишь, предатель! — выпрямляясь в кровати и почти задыхаясь, крикнула Мара. — Разве мне не ведомо, что в твоей душе поганой деется? Ты женишься! Вот ради того и меня стал гнать со двора; постылая — и вон меня, как падаль негодную! Молодая, вишь, полюбилася!.. У! Проклятые!..
Она еще что-то хотела сказать, но кашель заглушил ее слова, и она в бессилии упала на подушки.
— Молчи, змея! — прошипел князь. — Беду еще твоя злоба накличет на головку ее светлую. Ведьма ведь ты!
Цыганка мало-помалу успокоилась; при этих словах горькая улыбка тронула ее запекшиеся, сухие губы.
— Теперь ведьмой обзываешь! А помнишь, как из табора, от жениха, меня увозил? Каких только слов ласковых не говаривал? Помнишь, как любви моей домогался? Дмитрий! Неужели забыл, все забыл и за другую красу гонишь меня? Умереть дай здесь, возле тебя, Дмитрий!
Мара уже не грозилась, не кляла его, а пресмыкалась перед ним и жалобно-жалобно молила о последней милостыни.
Но боярина мало растрогали ее слова; он должен был исполнить требование своего будущего тестя и выгнать цыганку, о которой знала вся Москва, иначе его молодая прелестная невеста не переступила бы порога его дома. Отказаться же от девушки, в которую он теперь был так страстно влюблен, как некогда в эту цыганку, ему, конечно, и в голову не приходило. Он предложил Маре переселиться в другой дом, на другой конец города, когда мог просто сослать ее в далекую деревню, потому что она была его крепостная, его раба, купленная им на потеху. Какое же ему было дело до ее души, которой он в ней и не признавал даже? Ее упорство только злило его, нисколько не смягчая его сердца.
— Ты, поди, который год умираешь… — равнодушно усмехнулся он. — Смерти твоей ждать — сам раньше помрешь… Да и некогда ждать-то.
— Скорее хочется свою любушку обнять? — дрожа от ревности, проговорила Мара. — А старую цыганку, молодость чью загубил, красоту чью заел, как собаку, из дома гонишь?
— Не гоню я тебя, — хмуро произнес боярин, думая про себя, что и впрямь больной недолго осталось жить, — а дом мне нужен!
— Не тебе нужен, а жене твоей молодой; видеть вам меня тошнехонько.
— А если и так? — вспылил вдруг Хованский. — Не тебе, холопке, перечить нам.
— Не всегда и я холопкой была, — побелевшими губами ответила Мара. — Ты вольную меня взял… И в таборе мой отец знатным промеж своего народа был…
— Буде смешить-то! Зна-атная! Может, царского рода твоя цыганская кровь? Ну, однако мне некогда зря калякать с тобою. Съезжай со двора да скорей…
— Не съеду, — глухо проговорила Мара.
— Что? — крикнул он. — А на скотный двор хочешь?
— Что же, волочи; сама не в силах идти, а волей своей с места не сдвинусь! Сюда силком волок, отсюда, как падаль, куда хочешь!