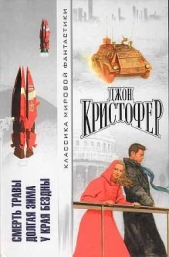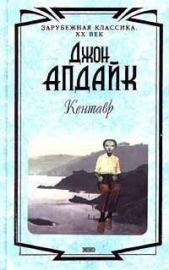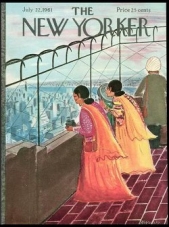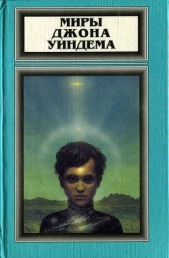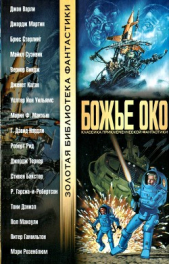Рассказы о Маплах
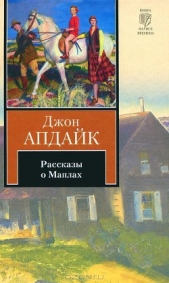
Рассказы о Маплах читать книгу онлайн
Трагикомическая семейная сага о жизни Ричарда и Джоан Мапл. Цикл рассказов, который Апдайк писал — ни больше, ни меньше — несколько десятилетий, вновь и вновь возвращаясь к любимым героям. Счастливые и трудные времена. Дети. Измены. Отчуждение. Вражда. Развод. Ненависть. От любви до ненависти — один шаг. От ненависти до любви — тоже. Но… когда и почему этот шаг делается? Впервые на русском языке — все рассказы о Маплах в одной книге!
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда кончилось лето, проведенное ими врозь, Ричард поселился в лачуге на берегу моря, в двух милях от дома; он пытался себе готовить, но гораздо проще для него самого и лучше для детей было ужинать у Джоан. Он привык к ее стряпне; собственно, его тело, каждая клетка, состояло из приготовленной ею еды. После ужина они выпивали по рюмочке; в это время дети (двое уехали учиться, другие двое еще жили дома) делали уроки, смотрели телевизор. Выпивка порождала разговоры и откровения, резкие слова, покаянные слезы, иногда даже карабканье наверх, в постель, из чрезмерной любви к своей второй половине. Она была права: ситуация сложилась нездоровая, тупиковая. Двадцать лет, приличествующие для взаимной любви, истекли.
На второй день поисков он нашел в Бостоне подходящую квартиру. У риелторши были рыжие волосы, круглая попка и маска из грима, средство скрыть молодость. Поднимаясь и спускаясь по лестницам у нее за спиной, Ричард был счастлив и одновременно напуган. Устав от него больше, чем он от нее, она с трудом засунула в замочную скважину ключ, толкнула плечом дверь и каким-то беспомощным жестом предложила ему оценить квартиру.
На полу не оказалось обычного ковра от стены до стены, и это был не потрескавшийся паркет, а черно-белая плитка, как на картине Вермеера. В окне он увидел небоскреб и решил, что выбор сделан. Небоскреб, знаменитый бостонский долгострой, был прекрасным бедствием, славился именно своим плачевным состоянием (с него все время обваливалось стекло) и красотой: архитектор являлся вдохновенным творцом. Он мечтал о невидимом и при этом огромном здании, стекла которого должны были отражать небо и старый кирпичный Бостон, дому полагалось таять в небесах. Вместо этого стекла с отражением небесной голубизны падали на улицу, поэтому их постепенно заменяли уродливой черной фанерой, ничего не способной отразить. Кое-какая отражающая площадь на фасадах все еще оставалась, и из кривого старого окошка внезапно подвернувшейся квартиры можно было любоваться этой колоссальной голубизной, вертикальной родственницей горизонтальной голубизны моря, которая приветствовала Ричарда по утрам в промозглом холоде его нетопленой хижины.
— Прекрасно! — сказал он своей рыжей проводнице, та в ответ приподняла угольные бровки. Договор об аренде он подписывал дрожащей рукой; в графе «семейное положение» написал «раздельное проживание». Свою новость он сообщил по телефону-автомату не жене, которая расстроилась бы, а любовнице, тоже находившейся далеко.
— Нашел! И уже подписал договор о найме. Среди всей этой писанины оказалось всего одно простое предложение: «Никаких водных кроватей!»
— У тебя дрожит голос.
— У меня чувство, что я породил черную дыру.
— Не хочешь — не надо. — По тону Рут и по ее паузе Ричард догадался, что она берет сигарету или пепельницу, готовясь к сеансу утешения возлюбленного.
— Как раз хочу. Она тоже хочет. Все хотят, чтобы я это сделал! Даже дети. Хотят — или делают вид.
Последнюю фразу она проигнорировала.
— Опиши мне квартиру.
Он запомнил только клетчатый пол и вид на голубое бедствие, отражающее плывущие в небе облака. И еще рыжую риелторшу. Та объяснила, где покупать еду, где прачечная. Ему понадобится прачечная?
— Звучит недурно, — ответила издалека Рут, когда он все ей выложил. Потный черный почтальон и еще один страждущий ждали, скоро ли он освободит телефонную будку. Он уже ненавидел город с его столпотворением, с его ненасытностью.
— Что тут недурного? — не сдержался он.
— Ты расстроен? Не хочешь — не делай.
— Перестань повторять одно и то же! — Оба соблюдали тягостную формальность: делали вид, что свободны внутри своих рушащихся браков, что могут поступать как им вздумается. В этой игре под названием «виноватая уклончивость» Рут достигла вершины мастерства. Ее слова часто казались не словами, а черными шашками на игральной доске, данью жесткому этикету. Не то что слова его жены, всегда раскрывавшиеся внутрь, пропитанные смыслом.
— Что еще мне сказать, кроме того, что я тебя люблю? — спросила Рут. С дальнего конца телефонной линии донесся резкий выдох. Он представил себе этот жест: отвернувшись от трубки, она натужно выпускала воздух; у нее была манера изображать крайнее нетерпение, даже если она никуда не торопилась, тушить сигарету, выкуренную только наполовину, крошить ее нетерпеливыми пальцами, словно прерванную на середине сердитую фразу. Его уязвляла ее нарочитая небрежность, как уязвлял любой напрасный жест. Ему захотелось бросить трубку, но это тоже был бы напрасный жест, поэтому он аккуратно повесил ее на рычаг.
Став одиноким жильцом, он убедился в своей скаредности. Выпроводив женщину, он спешно восстанавливал холостяцкий порядок, опорожнял пепельницы, которые после Рут были набиты длинными, преждевременно умерщвленными телами, а после Джоан — окурками немногим длиннее фильтров. Женщины, как он подмечал с неожиданным удовольствием, если и изъявляли готовность у него прибрать, то это был только формальный жест: кровать после них оставалась развороченной, посуда грязной, пепел они систематически стряхивали во все три пепельницы (стеклянную, глиняную и импровизированную — крышку от кастрюльки), словно это были базы в бейсболе, касаться которых требуют правила игры. Опорожняя их, он с улыбкой избавлялся как от страшноватого морга, устроенного Рут, так и от аккуратного гнездышка, свитого из фильтров Джоан, скромного, словно белая галька в вазе для нарциссов. Когда он критиковал Рут за тушение недокуренных сигарет, она возражала с немигающей уверенностью в правоте своего внутреннего устройства, что для нее, для ее здоровья гораздо полезнее не тянуть с тушением сигареты; разумеется, она была права, лучше разрушать все вокруг, чем саму себя. Рут воплощала собой любовь, жизнь, за это он ее и любил. Но навязчивая бережливость Джоан, ее невысказанный инстинкт смерти были ему так же знакомы и дороги, как ее экономный почерк и упругие темные колечки волос на лобке, поэтому при опорожнении ее пепельниц Ричард тоже улыбался. Эта его улыбка также была сродни жесту, предназначенному для зрителя. Он начал лицедействовать еще перед родителями, бабушками и дедушками, братьями и сестрами, перед домашними питомцами, потом развил свой талант перед соучениками и учителями, позже достиг новых высот перед собственными детьми, сначала восхищавшимися им, поэтому даже в одиночестве не мог перестать кривляться. Для этого он обзавелся компаньоном, обожателем извне — голубым небоскребом. Его присутствие он постоянно чувствовал.
При своей голубизне небоскреб был еще и зеленоватым, чем превосходил небеса. Сначала Ричард недоумевал, почему отражаемые им облака плывут в ту же сторону, что и облака позади него. Потом, призвав на помощь пространственное воображение, он сообразил, что зеркало не отправляет наши движения в противоположную сторону, хотя перемещает нам уши и заставляет дергаться рот, так что даже лицо любимой выглядит в зеркале уродливым, таким — вот странная мысль! — каким всегда видит его она сама. Он понял, что зеркало, стоящее в гуще марширующей армии, не повлияет на ее движение; нередко отраженная половинка одного облака продолжала половинку другого, частично прятавшегося за фасадом; реальность и отражение двигались вместе, пронзаемые, как стрелой Купидона, следом реактивного лайнера. Бетонно-зеркальное бедствие высвечивало самое сердце города. По ночам оно выглядело вереницей мутноватых огней, похожей на плывущий в небе изящный корабль, в дождь или в туман совсем пропадало, хотя в непогоду Ричард с особенной отчетливостью видел кирпичные трубы и железные шпили города. Даже становясь невидимым, город никуда не девался, как никуда не девался сам Ричард, его душа. Он пытался анализировать логику замены окон, соотношения стекол и дыр. Никакой логики он не выявил, кроме неспешной работы трудяг невидимок, с пчелиной безмозглостью освобождавших и снова заполнявших стеклянные ячейки. Задерживаясь у своего окна надолго, он мог наблюдать явление сродни конденсации капли росы: пространство, только что ничего не отражавшее, начинало блестеть, отражать внешний мир, становилось зеленовато-голубым. Минуло несколько дней, прежде чем до него дошло, что на старом волнистом стекле у самого его носа призраки, то есть прежние жильцы, оставили нанесенные алмазом инициалы, имена, даты; комичнее всего была самая глубокая надпись, две трогательные строчки: