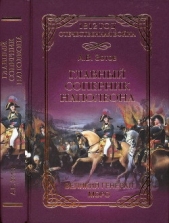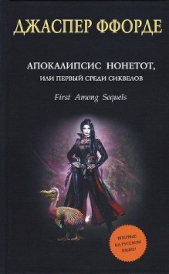Заговор равных

Заговор равных читать книгу онлайн
Повесть «Заговор равных» написана в Париже в феврале — марте 1928 года, в том же году (с небольшими сокращениями) была опубликована в журнале «Красная новь» (№№ 11 и 12) и вышла отдельной книгой в издательстве «Петрополис» (Берлин — Рига).Книга И. Эренбурга, воссоздающая один из самых драматических эпизодов французской буржуазной революции XVIII века, написана в духе советской школы исторического романа.«Заговор равных» — повесть о Франсуа Ноэле Бабефе (1760–1797) и его единомышленниках, которые пытались поднять в Париже массовое вооруженное восстание против контрреволюционной Директории, захватившей власть после государственного переворота 9 термидора (27 июля 1795 г.)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бабеф мечтал о всеобщем благоденствии. Бабеф верил в добрую природу человека. Теперь он видит только низость, трусость, клевету врагов, молчание друзей. Он полон отчаянья, такого же сильного и стремительного, как недавняя его вера. Он отворачивается, когда тюремщик приносит миску с супом: не может глядеть на людей. Он даже не думает о своей жене и детях. А там за стеной горе, слезы. Стойко сносила жена Бабефа все мытарства. Теперь и она пала духом. Ей не только нечем кормить детей, ей незачем теперь жить: ее мужа арестовали, и все говорят, что на этот раз ему отрежут голову. Она пишет Бабефу: «Я не могу так жить. Я хочу умереть».
Ответ Бабефа жесток и страшен. Надо знать, как привязан этот человек к своей семье, как неизменно заботился он о здоровье жены, о воспитании детей, сидя в тюрьме или в добровольном заточении, чтобы понять ужас коротких строк: «Любовь к отечеству заглушает во мне все другие чувства. Я с тобой всегда откровенен, я тебе говорю прямо, мы якобинцы, мы бешеные, мы вовсе не нежны, нет, напротив, мы дьявольски черствы. Ты говоришь, что ты решила умереть? Что же я могу тебе ответить? Умри, если ты этого хочешь»…
Проходит вспышка. Бабеф жадно ищет в других стойкости, в себе нежности. Рядом с ним сидит Буонарроти. Они разлучены. У Буонарроти тоже осталась на воле жена. Ее зовут Терезой. Она молода, неопытна, одинока. Буонарроти не только красив и строен, — все в нем гармонично. Он не знает отрешенности, наготы, неистовства Бабефа. Он предан идее равенства и спокойно думает о смерти. Но гражданские страсти не убили в нем другой любви, образ Терезы не покидает его камеры. На клочках белья он пишет нежные послания: «Дорогой предмет моей любви. Твое горе причиняет мне столько мучений! Будь стойкой, как я. Моя любовь к тебе никогда не была так горяча. Бедная моя Тереза! Я плачу, думая о тебе. Если б я мог достать твой портрет!.. Тирания хочет меня уничтожить, но верь мне, я не падаю духом. Увы! Прощай! Мы страдаем за истину и за справедливость».
Читая эти полустертые каракули, вшитые в штаны или в жилет, Тереза плачет, плача она улыбается: такой любовью женщина вправе гордиться.
Время идет. Вот уж мессидор. Душное лето вползло в камеры. Бабеф теперь спокоен. Это спокойствие отчаяния. Он пишет своему другу Лепелетье: «Не пугайся, увидев эти строки, написанные моей рукой. От меня все бегут… Но совесть говорит мне, что я чист»…
Он пишет и думает: кто знает, может быть, и Лепелетье предаст меня? Нет, Лепелетье честен, прям душой! Он пишет: «Когда зароют в землю мое тело, что от меня останется, кроме множества проектов, заметок, планов?.. Настанет время, люди снова начнут обдумывать, как бы утвердить благоденствие человечества, тогда ты сможешь разобраться в этих клочках бумаги и представить всем последователям равенства мои мысли, которые развращенные умы теперь называют праздными мечтами».
Он говорит о предательстве демократов, о клевете, о том, что никто его не хочет понять. Он поручает другу Лепелетье жену и детей. Старший сын хочет быть рабочим, печатником. Бабеф просит Лепелетье помочь ему в этом. Младший? Он еще слишком мал, чтобы гадать… Пусть оба будут честными рабочими!..
Для себя Бабеф просит только одного: его должны скоро увезти в Вандому. Нельзя ли помочь жене и детям последовать за ним? Он хочет, чтобы они были поблизости до последней минуты…
Здесь Бабеф кладет перо. Он долго ходит по камере опустив голову. На него никто не смотрит: ни тюремщики, ни история. Бабеф, Франсуа, добрый Франсуа может теперь спокойно плакать…
Поздно ночью он приписывает: «Мои мысли были с ними до последнего предела, до небытия»… И черное душное небытие входит в окно, в глаза, в душу. Может быть, погасла незаправленная лампа? Или арестант Бабеф, измучившись ходьбой, уснул?..
Наконец настал день отъезда. Арестованных посадили в клетки, специально для этого приготовленные. Года три тому назад в Париже все только и говорили, что о зверстве австрийцев, которые посадили Друэ в клетку. Это было выдумкой революционных кумушек. То, что приписывали австрийским тиранам, осуществило правительство республики. Подсудимых выставили, как диких зверей, на посмешище толпы.
Рабочие, глядя на Бабефа в клетке, ругались, отворачивались или кричали с угрюмой лаской: «Гракх, не унывай!..» А посетители «Пале-Эгалите» — спекулянты, журналисты, еще вчера требовавшие казни всех аристократов, новоиспеченные богачи, франтихи, молодые люди, скрывающиеся от военных наборов, — вся эта разряженная и надушенная чернь улюлюкала: «Смерть грабителям! Смерть террористам!»
Сзади шли женщины и дети. Тереза Буонарроти — аристократка и Мария Бабеф — прислуга, взявшись за руки, сближенные одним огромным горем. Они шли три дня. Когда падала ночь, они плакали; они были женщинами. Днем они улыбались: ведь на них глядели те, из клеток. Они были не только женщинами.
Подлое и высокое время!
После ареста вождей патриоты растерялись. У них больше не было ни организации, ни веры. Один говорил другому: «Нельзя сидеть сложа руки! Надо выступить!..» Другой охотно соглашался, однако оба продолжали ругать Барраса в каком-нибудь кафе, окруженные агентами Кошона.
Конечно, раскрытие заговора не могло уничтожить недовольство народа. По-прежнему рабочие толпились вечерами на мостах. Они кричали:
— Робеспьер или король!.. Нам все равно кто, лишь бы было что жрать!..
По-прежнему Париж казался вулканом. О том, что этот дымящий вулкан потухает, догадывались немногие.
Директория теперь заигрывала с роялистами, как после вендемьера заигрывала с патриотами. Торговались о высоких принципах и о доходных местах. Новых покупателей зазывал Карно: он назначал роялистов администраторами, комиссарами, судьями. Эмигранты перестали скрываться. Они открыто показывались в парижских салонах. Церковь снова предпочла мученичеству и катакомбам угрозы: перед пасхой торговцы Парижа получили анонимные записочки: «Если вы не закроете вашей лавки в праздник, вы будете причислены к якобинцам». Все влиятельные газеты были в руках противников республики. Если роялисты не пытались захватить власть, то только потому, что были охвачены общей апатией.
Прочитав письмо Бабефа, директоры расхохотались. Теперь те же слова повторял не анархист, но республиканский генерал Гош: «Раскройте глаза! Друзья вас покинули. Надо спасать республику. Почему говорят о террористах? Где они? Я вижу повсюду врагов — шуанов». На улицах Парижа начали появляться белые флаги. Директория ответила пышным празднованием годовщины девятого термидора. Горбун Леревельер особенно любил помпезные шествия, гирлянды, колесницы, фейерверк. С восторгом он надел парадную шляпу. Народу собралось немного. Когда граждане директоры крикнули «да здравствует республика!», их никто не поддержал: друзья республики ненавидели Директорию, а враги предпочитали иные, более откровенные лозунги.
Полиция, разумеется, работала. Перед роялистами она пасовала: у роялистов были деньги и связи. Зато арестовывали крупных преступников. Так, например, в тюрьму была доставлена бывшая кухарка бывшего графа Шалябра, у которой нашли на груди портрет злодея Марата.
Не все бывшие кухарки или бывшие дворники продолжали чтить память «друга народа». Некоторые вышли в люди и презирали свое прошлое. Они хорошо зарабатывали. Гражданин Пио в течение одного года поставками и спекуляцией нажил два дома в Париже, сто десятин земли в Курбвуа, дом в Пасси за семь миллионов ассигнациями, наконец два колониальных магазина, один в Марселе, другой в Бордо. Таких Пио было немало. Они поддерживали Директорию против санкюлотов и против эмигрантов.
Сытый Париж продолжал увлекаться танцами и спортом. Число публичных балов дошло до тысячи восьмисот.
Теперь эта страсть захватила и рабочих. В накуренных подвалах Сен-Антуана вместо якобинских речей раздавались звуки лансье. На состязания атлетов, на кельтские игры собирались десятки тысяч зрителей: жить, бегать, прыгать, кружиться, не думать, не думать ни о чем!..