Дело № 179888. Летопись горького времени
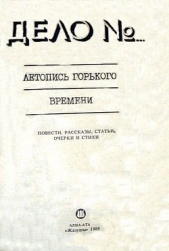
Дело № 179888. Летопись горького времени читать книгу онлайн
Автобиографическая повесть «Дело № 179888» известного русского писателя, автора приключенческих романов. Почти двадцать лет забрал у писателя сталинский режим. Он отбывал свой срок в различных лагерях Гулага. От недоедания и холода, работая на лесоповалах, он заболел туберкулезом. Освобожден Михаил Ефимович был 21 июня 1950 года.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И если не действовала «камера пыток» (кабинеты следователей по лексикону камеры), если не согнул человека вечный, тошнотворный, кружащий голову голод (в день 300 граммов хлеба и два раза жидкая баланда), тогда принимались выкручивать не руки, а душу, самые нежные, самые сокровенные чувства человека любящего и любимого.
Я видел, во что превращались люди после такой подлой нравственной пытки. Начальнику паровозного депо, месяц стонавшему от ломоты в распухших ногах и все же несломленному, следователь принялся рассказывать об изменах его молодой жены. Негодяй приводил всевозможные подробности, называл имена и фамилии ее якобы любовников, что трудно было не поверить. А ведь любовь и вера — наиболее незащищенные чувства. Но он молчал, крепился. Вообразите, каких душевных усилий стоило ему это молчание. Но пришел все же день, вернее, ночь, когда терзавшие его чувства вырвались наружу. Камера вскочила от воплей. Дело было летом, окна были распахнуты, и он, вцепившись в прутья оконной решетки, подняв к звездам залитые слезами глаза, вопил, выл от душевной боли:
— Роза, любимая, дорогая, не делай этого!.. Пожалей меня, Роза!..
Полная яркая луна холодно, бесстрастно освещала его лицо, искаженное мукой. Такие лица бывают только у приговоренных к смерти. Я почувствовал, как затрепетало у меня в веках глазное яблоко — говорят, истерика заразительна. Вбежавшие в камеру надзиратели оторвали его от решетки и уволокли. В лазарет, думаете? Нет, к следователю. Теперь от него можно было добиться любой подлости. Так думали ежовские мастера заплечных дел, они верили только в силу человеческого страха и отчаяния, но им неведомы были силы мужества и духовной стойкости советских людей. Начальник депо вернулся в камеру только через пять дней. Мы не узнали, где он их провел, и что с ним делали, но вернулся к нам совсем другой человек. Не было уже злобных выкриков, ненависти, не было даже отчаяния, он пришел с измученной улыбкой, говорил тихим, усталым голосом. Сорванная гайка, подумали мы, теперь верти его в любую сторону. Но мы услышали, как он говорил своему другу-старосте с какой-то роковой беззащитностью, но успокоенно:
— Чтобы утром, проснувшись, не жалеть, что проснулся, надо чувствовать, что ты не сволочь. Вы согласны со мной, доктор? Лучше язык себе откусить!
Мы возликовали. Не пропал человек! Жив человек! Униженный, затравленный, страдающий, а жив, не сдается и не сдастся!
А вскоре наступили дни тяжелых испытаний и для нашего милого старосты. Однажды он пришел в камеру после допроса с какими-то пустыми, неподвижными глазами. Он натыкался на людей, на скамейки, будто внезапно ослеп. Для нашего светлого, лучистого доктора померк свет!
На другой день мы узнали, что для доктора действительно померк свет. Следователь дал ему прочитать протокол партийного собрания больницы. Соратники доктора по партии называли его врагом народа, изменником Родины и партийным отступником. Первичная организация единогласно исключила его из партии, райком, а затем и в бюро обкома утвердили исключение. Он был членом обкома. Документ этот был, к сожалению, подлинным. Зараза страха, трусливых отречений и доносительства в годы сталинского самовластия широко расползлась по нашей стране. Чистые роднички человеческих чувств, советских и коммунистических ленинских идей умело загрязнялись, опоганивались. Доктор, будто с трудом что-то проглотив, дернул кадыком и закончил свой нерадостный рассказ так:
— Стар, видно, стал. Перестаю понимать. Почему это кругом столько подлецов развелось?
Начав рассказ о людях непоколебимой честности, об их нравственной высоте, я попутно хочу сказать не скорбную, а гордую правду о человеке моего цеха. Удивительно вел себя в камере Адриан Иванович Пиотровский, и особенно, когда возвращался с допросов. По-интеллигентски мягкий и с обостренной чувствительностью, присущей природе художника, он должен был сильнее и глубже многих из нас страдать от варварских допросов. Он нередко приходил от следователя со стиснутыми зубами, как малярик, силящийся удержать дрожь озноба, и все же находил силы шутить. Зная, как нужен нам смех, он неторопливо, как-то деликатно, без восклицательных знаков рассказывал об очередном допросе:
— Такой идиот моя машерочка. Я хотел с ним о литературе поговорить. Читали, говорю, наверное, у Куприна…
— О, господи! О литературе с машерочкой говорить! — смеемся мы. — Ну, ну, дальше!
— А он орет: «Какой там еще Куприн? Вот тебе Куприн!» Изволили ударить меня. И руку носовым платком вытерли. Такая чистюля моя машерочка!
Я любуюсь Адрианом Ивановичем. Что-то бесконечно привлекательное в его спокойной, умной улыбке, в неторопливых точных жестах, во всей свободной изящной манере держаться, а ведь его только что оскорбляли, били, недаром он то и дело щупает двумя пальцами нижнюю челюсть.
— Все-таки заинтересовался, спрашивает: «Ладно, давай, что там у вашего Куприна?» Куприн писал, говорю, что прежде у жандармов были обязательно голубые глаза. Подбирали к голубым околышам. Вижу, что эта славная традиция и теперь соблюдается.
Все смеются, а я воображаю, как Адриан Иванович невинно смотрит на голубые глаза следователя, ожидая удара. И удар, конечно, был. Адриан Иванович заканчивает:
— Второй раз машерочка руку платком не вытирал.
Он щурит на меня близорукие глаза и, видимо, неверно понимает выражение моего лица.
— Осуждаете за пошлятину? Но, бог мой, как же иначе с ним говорить? Не так же…
Полузакрыв глаза, тихо улыбаясь от наслаждения, он медленна читает:
Во весь голос надо говорить об этом не крикливом, но гордом мужестве.
А у нас есть, к сожалению, люди, быстро и недостойно забывшие то, «что жизнь прошла насквозь». Очи уже морщатся, уже говорят: да, это было, да, это тяжело, стыдно, но хватит ворошить прошлое и выносить сор из нашей избы. Хватит, хватит!
Нет, не хватит! Ради настоящего и счастливого, разумного, честного будущего обязаны мы ворошить прошлое. Сталинский культ посеял в душах неустойчивых людей ядовитые семена, и до сей поры мы видим ростки этих недобрых семян в труде, в быту, в науке, в искусстве, в человеческих взаимоотношениях.
Мы обязаны расчистить поле нашей жизни, выполоть страх, угодничество, неуважение к человеку, робость слов и робость мыслей.
К Большой Чистке призывает нас Партия!
4
Вызвали, наконец, и меня на допрос. Это произошло в конце второго месяца моего тюремного заключения. Вызвали днем, а это было уже доброе предзнаменование.
«Тягач», как называли мы конвоиров, водивших нас на допросы, ведет меня по темным коридорам Шпалерки. Мы идем долго, переступаем какой-то высокий порог, и я попадаю в совсем другой мир. В окна бьет солнце — боже, какое оно яркое, оказывается! — за окном крыши родного города, радостная зелень какого-то сада, в широком коридоре встречаются щеголеватые офицеры, две нарядно одетые, весело щебечущие девушки жуют на ходу бутерброды, пахнет духами, хорошим табаком, откуда-то тянет вкусными запахами кухни, и варевом, и жаревом, и печевом. Светло, весело, чисто, даже уютно, от чего я уже отвык в полутьме и вонючей духоте набитой заключенными камеры. Не может быть, чтобы в этом веселом, нарядном доме таилось что-нибудь страшное, творились гнусности. А был это пристроенный к тюрьме «Большой дом», как называли ленинградцы огромное здание областного управления НКВД, место далеко не веселое и не уютное. «Тягач» останавливает меня около двери, каких было множество в бесконечном коридоре, и стучит. За дверью звонкий веселый голос крикнул:
— Входите!
В 1956 году, уже на свободе, я читал в Карагандинском областном управлении внутренних дел постановление военного трибунала о моей реабилитации «за полным отсутствием состава преступления». В постановлении этом упоминалось и о моем следователе, лейтенанте НКВД Лещенко. Многочисленными свидетельскими показаниями доказаны методы его следовательской работы: запугивания, издевательства, избиения арестованных. Но при первой нашей встрече он мне очень понравился. Парень спортивного склада, с ловким тренированным телом, румяным добрым лицом, белокурыми кудрями, с дружелюбной белозубой улыбкой. Я вдруг вспоминаю рассказ Пиотровского и со страхом гляжу на глаза лейтенанта. Слава богу, глаза у него карие! Едва я вошел, он позвонил и приказал принести чай. Помню, к чаю были конфеты «раковые шейки». Он угостил меня и дорогой папиросой. Это было истинное наслаждение. В камере нам давали две пачки махорки на месяц.
























