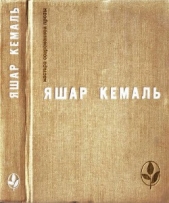Огненный стрежень

Огненный стрежень читать книгу онлайн
Крестьянские войны XVII и XVIII веков, Русь и Восток, русская земля и казахская степь, давние, прочные узы дружбы, соединяющие народы Казахстана и России, — таковы темы произведений, вошедших в предлагаемую книгу.
Бурное кипение народных страстей, столкновение сильных, самобытных характеров, неугасающее стремление простых людей к счастью и социальной справедливости — таким предстает историческое прошлое в рассказах и повестях этой книги, отличающихся напряженностью действия и динамично развивающимся сюжетом.
Включенные в сборник произведения в разные годы публиковались на страницах периодических изданий.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На лице ее отпечатались страх и усталость, губы запеклись. В больших карих глазах горел лихорадочный огонь. Длинное холщовое платье было испачкано золой.
Она бежала мимо черных изб, огибая то и дело посадские телеги, коров, распряженных лошадей. Под телегами почти всюду лежали женщины и дети. Слышались резкие голоса, причитания и плач.
Она выбежала на верхнюю площадь и остановилась. Треща, плюясь желтыми огненными искрами, догорал терем боярина Михайлы Розмира. По всему подворью клубился дым, но людей уже не было, и это, наверное, было самым страшным.
Ближе, возле уцелевшей стены церкви Рождества богородицы, она увидела ратников. Мечи их, и щиты, и шеломы висели на стене, на вбитых меж бревен кольях, тут же прислонили они свои самодельные копья.
Седой одноглазый кожевник доставал деревянным черпаком из котла житную кашу с кусками мяса, оделял ратников. Усталые, с черными, покрытыми земляной пылью лицами, садились они с глиняными горшками, с деревянными мисками в руках на бревна, хлебали ложками горячее варево.
— А, Ксения, — сказал одноглазый, увидев девушку, — ты чего?
— Где Роман? — она подошла, остановилась. — Ты его видел?
— Нет. Мы сейчас лишь из сечи. Там его, у Летней башни, не было. Да мы скоро опять туда. Только голод утолить — и опять на стену. Там за нас пока бьются. Да татары-то не ждут.
— Ну, что, что татары? А вы как?
— Да пока держимся. Но тяжко. Что бог даст.
— Милые, родные, уж вы не выдайте нас… Ведь нам тогда все одно — погибель.
— Живые не выдадим, — жуя пищу, поднял один ратник от миски глаза, посмотрел твердо, и она тоже смотрела на него и видела, как у него на молодой, сильной шее ходил кадык, — а мертвые — бог весть.
— Постоим, девка, покуда в руках сила, не бойся, — отозвался сидевший рядом коренастый приземистый кожемяка в самодельном плетеном панцире с бляхами. — Постоим. Да жаль, с самого-то начала дружины мало княжеской здесь было. Вот тебе и стольный град…
— Ты ступай, Ксения, ступай, — сказал одноглазый. — Не дело тебе здесь метаться. Не ровен час, камень идольский зацепит или смага проклятая: масло из горшка пламенем опалит, убьет. Иди, хоронись. А Романа встречу, я ему скажу, что тебя-де видел. Ступай…
— Скажи, у деда я, в монастыре…
— Скажу, скажу…
Ксения отступила, горячими, исступленными глазами глядя на ратников, шепча молитвы, широко крестя их перстами правой руки. Потом повернулась, побежала.
Позади со свистом пронесся, ударился о стену татарский горящий горшок, треснулся на мелкие куски. Она оглянулась. Двое, вскочив, шеломами черпали землю, забрасывали струи горящего масла.
За углом закричала женщина. Вдали нарастал шум, будто гром прибоя. Ратники быстро доедали похлебку. Иные уже разбирали мечи, надевали на руки щиты…
До монастыря Ксения добралась в сумерках короткого зимнего дня. Дым гуще, чернее подымался, стоял над городом. Пожарища желтыми, красными языками тянулись к небу. Тучи на западе разошлись. Солнце садилось багровое, кровавое.
Она поднялась по лестнице, вошла в келью деда. Он сидел у стола и, как всегда, писал. Лампада горела перед ним на стене.
Он повернул голову. Длинные белые волосы обрамляли сухое лицо, широкими волнами лежали на плечах. Темно-серые глаза были бездонны.
— Ты пришла, Ксения? Ты привела Романа?
— Нет, дедуня. Я его не нашла. Ему скажут, что я здесь. Если встретят.
— Хорошо. Будем ждать. Поешь, Ксения. Брат Ефрем приходил. Принес хлеба, мяса жареного. Там, на окне…
— Не хочу. Куска проглотить не могу. Горит град. Гибнут люди.
— Нет, Ксения, ты поешь. Тебе силы нужны будут.
Он обвел глазами келью.
Иконы в углу. Полки по стенам, на них свитки рукописные. И книги — большие и малые, толстые и тонкие. В коже и в холстине. С крышками деревянными, расписанными киноварью, и зеленью, и охрой. С каменьями, с застежками, с медными выступами-жуками.
И на ту, что перед ним лежала раскрытая, — на нее тоже бросил взор. Правда, взглянул только искоса и как бы с боязнью, словно она следила за ним. То было самое великое в жизни: летопись. Киевский свод. До последнего заносил он на страницы то, что совершалось. И неотступно думал: что будет, если стены не выдержат, и ратники, и дружина падут, и то ревущее за валами море ворвется сюда… Что будет? Что с ней будет? С ней!
— Братья приходили, кто жив, — он отложил перо, потер лоб, — приходили и потрапезовали, да скоро и ушли все впопыхах. Стены-то рушатся, и их чинить надо. Перед уходом, что успели: узорочье, злато, серебро, каменья, ризы — попрятали, зарыли. Иные книги я им отдал — зарыли же. А эту, — кивнул на раскрытую летопись, на ее шелковистые, желтовато-белые пергаментные листы, сморщился, как от боли, — эту боюсь. Это, спаси Христос, хорошо, если скоро отроют. А нет — пропадет. От сырости в земле пропадет.
Он пристально посмотрел на Ксению. Она молчала. Смотрела в узкое высокое окно. Там, вдалеке, билось пламя.
— Ксения, — он встал, подошел к ней, обнял. — Ксения, ее спасти надо, — кивнул на книгу. — Если со мной, оборони господь, что случится, ты ее унеси. На север унеси, в леса, в иные города — Смоленск или Новгород, с Романом унеси, а?
Ксения поцеловала его.
— Унесу, — прошептала она.
Разрывающий душу грохот обрушился сверху.
Ксения, прижавшись к стене, увидела, что потолок обваливается. В пробитую в углу дыру, круша иконы, полки, книги, утварь, рухнул черный громадный валун. Старик метнулся к столу. Затрещала, вывернулась из пазов и упала балка. Лампада разбилась с тонким, еле слышным в этом грохоте звоном.
Последнее, что заметила девушка, прежде чем погас язычок лампады, — были взметнувшиеся льняные кудри деда: он упал под рухнувшей балкой.
В очаге комнаты, служившей монахам библиотекой, весело трещал огонь. От крупных поленьев тянуло приятным смолистым запахом.
Томазо, примостившись в большом черном кресле, обитом кожей, слушал монаха. Тот читал Евангелие. Глаза юноши были устремлены в огонь. За плотно закрытыми ставнями слышались завывание ветра и шум дождя. К ночи разразилась непогода.
Читая священное писание, монах время от времени бросал взгляд на Томазо и видел, что мысли юноши витали далеко и слушал он плохо.
В языках пламени, на которые был устремлен взор юноши, ему виделись лица флорентийского купца, красавицы Виолы, но более всего, пожалуй, — угрожающий, искаженный лик безумца, предрекавшего гибель того мира, в котором они жили.
— О чем ты думаешь, Томазо? — наконец спросил монах, прерывая чтение.
— Простите, падре, я увлекся мыслью.
— Какой же?
— Если источник мира есть добро полное и совершенное, то откуда же возникло зло?
Монах нахмурился.
— Вседержитель не может быть повинен в зле, — строго сказал он.
— Это Джованни Руфо смутил меня своими рассказами. И бродяга-доминиканец. И, может быть, Виола, племянница его преосвященства.
— Но всякий, обвиняющий творца, богохульствует.
— О, как огромны пространства, отделяющие нас от того города, где он был. Но, отделяя, они соединяют. И потому мы — одно, падре, мы — одно!
— Мысль должна быть чиста. Тогда она увидит истину.
— Пусть разорвется грудь моя, и прижму я к сердцу мир, добр он или ужасен.
— Промысел ведет людей, и не должно сомневаться.
— И как будто исполнилось все, и довольны, и нечего желать вам, да?
— Не кричи!
— Но рано, рано удовольствовались!
— Не кричи, сын мой!
— Потому что никто не знает часа, в который придет сын человеческий, и что с ним, с сыном человеческим, сейчас! Никто! Никто!
Монах встал, подошел к нему, обнял.
— Перестань, Томазо, — он поцеловал его в лоб. — Перестань. Мудрость веков окружает тебя. Посмотри: вот книги. Прислушайся к их голосу. Он глубок и спокоен.
Мимо опять с грохотом промчался татарский всадник, исчез. Роман сжал ее плечо, наклонился, прошептал в самое ухо: