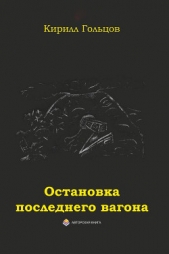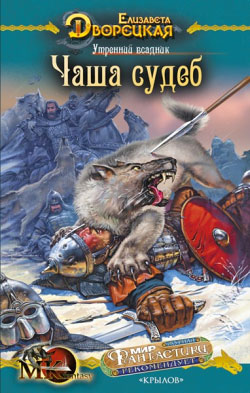Екатеринбург, восемнадцатый
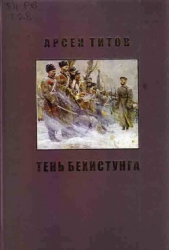
Екатеринбург, восемнадцатый читать книгу онлайн
Роман известного уральского писателя Арсена Титова "Екатеринбург, восемнадцатый" — третья часть трилогии «Тень Бехистунга». Перед вами журнальный вариант этого романа, публиковавшийся в № 11, 12 журнала «Урал» 2014 г.
Действие трилогии «Тень Бехистунга» происходит в Первую мировую войну на Кавказском фронте и в Персии в период с 1914 по 1917 годы, а также в Екатеринбурге зимой-весной 1918 года, в преддверии Гражданской войны.
Трилогия открывает малоизвестные, а порой и совсем забытые страницы нашей не столь уж далекой истории, повествует о судьбах российского офицерства, казачества, простых солдат, защищавших рубежи нашего Отечества, о жизни их по возвращении домой в первые и, казалось бы, мирные послереволюционные месяцы.
Трилогия «Тень Бехистунга» является одним из немногих в нашей литературе художественным произведением, посвященным именно этим событиям, полным трагизма, беззаветного служения, подвигов во имя Отечества.
В 2014 году роман-трилогия удостоен престижной литературной премии «Ясная поляна».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Бурков невольно взглянул на меня. Минута для меня была — не знаю, как точно определить, — она была обыкновенно оскорбительной. Я сдержаться с ответом не смог.
— Вы общее выводите из частного! — сказал я.
— Общее? Из частного? — с расстановкой и, как бы даже ошеломленный моей дуростью вступить с ним в пререкания, спросил Паша. — А где же частное? — спросил он далее, но спросил уже только в ораторском приеме для собственного ответа. — Вековое глумление над нашим братишкой матросом — частное? Вековое глумление над рабочим и крестьянином — частное? Я, кстати, еще не спросил твою классовую принадлежность, хотя без секстанта и буссоли могу с точностью до секунды градуса определить ее!
— Паша, перестань! Перестань, товарищ Хохряков! — вступился Бурков.
— Ладно! — успокоился Паша. — Ладно. Давай по порядку. Давай так. Нашу матросскую службу откинем по причине ее тобой незнания! Давай возьмем армию! Я в апреле прошлого года целый месяц провел на Северном фронте, прошел его от Двинска до Ревеля! И каждый миг я наблюдал картины того же превращения солдата в скота, что и на флоте. Всем, от генералов до полковых попов, — солдат не кто иной, как только предмет для издевательства. Бессловесная скотина или, как говорили в рабовладельческом строе, говорящее орудие труда, только здесь не труда, а убийства, и не говорящее, а бессловесное!
— А я три года на войне и каждый миг видел картины беззаветного служения Отечеству как рядовых солдат, так и их командиров! — сказал я.
— Мы с разных классовых позиций смотрели! — оборвал меня Паша.
— Пуля или чемодан, — чемоданами, как то было принято на фронте, я назвал снаряды тяжелой артиллерии, — пуля или чемодан не спрашивают классовой позиции! — сказал я.
— Пуля или чемодан, одинаковые для всех, — чистейшей воды буржуазная, то есть классово враждебная, демагогия! А там, где классы, там нет мира! Солдат слушается классово чуждого командира, пока он слеп, как мокрая кутька, когда он оболванен буржуазной галиматьей о защите Отечества. Нет у угнетенного класса Отечества! Отечество для угнетенного класса — враг номер один! — сказал Паша.
— Товарищ Хохряков! Давай подруливай к делу! — несколько повысил голос Бурков и показал мне взглядом на стол: — А ты давай выкладывай все по порядку: кто, где, как, — а то тебя точно за классового врага запишут, что и сам товарищ Троцкий не поможет! Где революционно отличился, говори, как на духу!
Нигде и никак я революционно не отличался. Я и отчислен был из корпуса за отказ революционно отличиться, то есть за отказ войти в корпусной ревком. Было непонятно, за что я был награжден тем же ревкомом знаком отличия ордена Святого Георгия, то есть солдатским Георгиевским крестом. Сам я это награждение принял как мою заслугу перед ними, моими подчиненными. А что имел в виду ревком, допытываться у меня не было возможности, тем более что в мой последний день перед отбытием из корпуса я в этом ревкоме едва не был поднят на штыки. Такое у меня было отношение с революцией. Моя же бумага с обозначением заслуг перед революцией, о которой вспомнил Бурков и о которой он знал от сотника Томлина, была фальшивой.
— Говори как на духу! — приказал Бурков.
И я единым дыханием словчил и здесь.
— По приказу корпусного ревкома я вывел из Персии для революции шестиорудийную батарею в порт Энзели с последующей отправкой ее на Баку! — сказал я.
— Вот! Вот, Паша! А ты ему шьешь врага номер один! Не враг он, Паша, а пока что не совсем классово зрячий балласт, из которого может выйти хороший революционный кирпич в стене революции! — хлопнул ладонью по столу Бурков и опять повернулся ко мне: — Давай дальше! Как здесь оказался и кем сейчас служишь, говори!
Я ответить не успел. Явно недовольный таким оборотом дела и, надо полагать, ничуть мне не поверивший, а более того, не привыкший оставлять последнее слово не за собой, Паша, перекатив челюстными мышцами, коротко бросил мне слово «Проверим!» и, будто не мне, а Буркову, и, будто не обо мне, стал снова говорить о вреде Отечества для угнетенного класса, о скором охвате революцией всего земного шара.
— Вот наша задача, товарищ Бурков! И если в тебе это не укладывается, то я тебя лично сведу к другу моему Якову Михайловичу, от которого мы сейчас с тобой шли. А чем это заканчивается для тех, кто не с нами, ты знаешь! — сказал он.
— Сведешь! — засмеялся Бурков. — Сведешь и вместе с Яковом Михайловичем шлепнешь! А пока не свел, напои-ка нас чаем! Да давай все-таки с моим товарищем определим!
— Пусть пока служит под твое поручительство. Ответишь вместе с ним головой! Если все так, как он сказал, — милости просим к нам! Нам спецы во как нужны! А если все не так, как сказал, — разговор короток. Вот бумага, — подвинул Паша мне листок. — Вот, пиши всю свою подноготную!
Чуть забегая вперед, скажу, что с парковыми лошадьми он действительно разобрался. Наши парковые Широков с Чернавских и начальник конского запаса Майоранов были арестованы, а начальником парка неожиданно был назначен подполковник Раздорский.
Вышли мы от Паши вместе с Бурковым. Узнав, что он живет с караульной командой Сто двадцать шестого полка в здании реального училища, я пригласил его к себе.
— Ты написал Хохрякову все, как есть? — спросил он.
И снова — в бою плохое решение выходило лучшим, чем потеря времени в поисках решения хорошего.
— Нет! — сказал я.
11
Мы сходили за вещами Буркова и принесли их к нам. Разговора не получалось. О чем думал он, я не скажу. Я же ни о чем думать не мог. Он оглядел наш дом, церемонно поздоровался с встревоженными Иваном Филипповичем и Анной Ивановной. Я ему показал батюшкин кабинет, спросил, годится ли. Он кивнул, бросил сидор на диван, вздохнул.
— Ладно. Думаю, не дознается! — сказал он о Паше Хохрякове.
Мы пошли каждый в свою сторону. Я увидел, Анна Ивановна посмотрела мне вслед. Возможно, свет играл в окне — увидеть мельком было едва ли, но мне показалось, глаза ее трепетали. «А я не умею любить!» — подумал я. Бурков меня окликнул.
— Вечером расскажешь, как есть! — сказал он.
Я кивнул.
Некогда, еще в академии, нам был зачитан короткий курс об агентурной деятельности армейских офицеров, то есть нас. Этот курс мы не приняли, нашли его для офицера русской армии неприемлемым. Мы пришли к мнению, что офицер русской армии имеет свои вполне определенные функции защиты Отечества. Потому у него должны быть свой определенный строй характера, духовных воззрений и этики. Рекомендуемые курсом методы агентурной деятельности мы сочли возможными только для чинов жандармерии, полиции и пограничной стражи. Мы не ставили себя выше их. Мы признавали за ними специфику их службы и признавали за ними их определенные функции в защите Отечества, которые с их строем характера, духовных воззрений и этики были сочетаемы. Повторяю, мы не ставили себя выше их. Мы не считали себя белоручками. Мы знали, что служить Отечеству и не замарать перчаток невозможно. Но нельзя было замарать — да что там замарать! — нельзя было допустить даже намека на тень, которая бы упала на честь русского офицера в служении Отечеству. Как я послужил ему — судить не мне. Но когда я согласно кивнул Буркову, я вдруг ощутил непередаваемое облегчение. Оказалось, тень какого-то прапорщика военного времени с моей фамилией висела на мне непомерным грузом. Я, по сути, являлся агентом. Я, по сути, скрывал себя, я манкировал своим подлинным чином и именем, я манкировал служением Отечеству. Я кивнул — и будто скинул с себя чье-то тяжелое и грязное тряпье. Я не думаю, что это было моей беспросветной дуростью, порой отличающей мой характер, или усталостью, той солдатской усталостью, о которой я уже, кажется, говорил, усталостью, предчувствием, а скорее, способом накликать на себя смерть и тем закончить мучения, мучения более душевные, непременно превращающиеся в душевную болезнь.