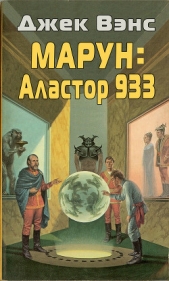И лун медлительных поток...

И лун медлительных поток... читать книгу онлайн
«Неохватные кедры просторно раскинули тяжелые кроны, словно держат на себе задремавшую тяжесть времени…» В безбрежность тайги, в прошлое северного края погружаемся мы с первых страниц этой книги. Здесь все кажется первозданным — и природа, и борьба за существование, и любовь. «И на всю жизнь, на всю долгую жизнь в Мирона вошло и осталось пронзительное, неугасимое удивление перед женщиной, что горячим телом, обжигающим ртом защитила его, оборонила от смерти. Она обнимала его нежно и плотно, обнимала волной от головы до пят, она словно переливала себя в Мирона, переливала торжественно и истово…» Роман-сказание — так определили жанр книги ее авторы тюменский писатель Геннадий Сазонов и мансийская сказительница Анна Конькова. Прослеживая судьбы четырех поколений обитателей таежной мансийской деревушки, авторы показывают, как тесно связаны особенности мировосприятия и психологии героев с поэтичным миром народных преданий и поверий, где «причудливо, нерасторжимо сплетались вымысел и чудо, правда и волшебство». В центре произведения — история охотничьего рода Картиных с начала XIX века до последнего его десятилетия. Авторы хотели продолжить повествование, задумана была вторая книга романа, но кончина писателя Геннадия Сазонова (1934–1988) оборвала начатую работу. Однако переиздается роман (первое издание: Свердловск, 1982) в дополненном виде — появилась новая глава, уточнен ряд эпизодов. На переплете — фрагмент одной из картин художника Г. С. Райшева.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда Яшка прибежал к запору, людской шум на реке приутих. Поставили мужчины стену.
Стоит снова, как все эти сотни лет, перекинулся с берега на берег священный летний запор, круто и мощно выгнулся и укротил реку. Не заковал намертво, а заарканил, стреножил своенравную, часто шалившую Евру, с которой нельзя спускать глаз, — может она взыграть, подняться на дыбы в косматых вихрях волн и раскидать запор. Сейчас она будто утомилась, немного поддалась неукротимому, жаркому напору людей, сдерживаемая стенкой, но, прорываясь через щели жалин, она пенилась и клубилась.
Ныряльщики сбросили с себя шубы, мужчины с лавы спустили на веревках камни и куски дерна. Тимпей Лозьвин, Мишка Картин и Мишка Молотков прыгнули в воду. Тихо стало на мостках, только дети, как воробьи, купались в теплом золотом песке, вызванивая тоненькими голосками.
— Ти-хо! Ти-хо! — цыкнул на них дед Портя.
Ребятишки притихли, уселись на берегу, как бельчата, и уставились в реку.
— Яшка, — шепотом позвал дед Портя, — ты почему принес половину ватланчика? Бегите, мужчины, в деревню, тащите сюда пысу.
Напряженно вглядываются мужчины в реку. Время сгустилось, стало вязким, и слышно каждому, как гулко у него бьется набухшее сердце — бум… бум… бум… Это здесь, под солнышком, под ветром, на тверди, на земле, так набухло сердце, а как у них там, у самого дна. Дед Портя набил трубку, раскурил, не отрываясь от реки. Помнит Портя, как иные ныряльщики и вовсе не возвращались, их потом выбрасывала река, до бесконечности чужих, неузнаваемо страшных. А иные, тоже сильные, тоже избранные — жизнь сама ведь назначает каждого на его ремесло, — выбрасывались из реки, словно из огня, и без крика, распахнув рот, падали грудью на жесткий песок. Не успевали люди поднять их на руки — из горла, из ушей брызгала алая кровь.
Что-то долго нет ныряльщиков. Ни одного… И молчит река, пенится. Пронзительно резко крикнула чайка и выхватила из воды рыбешку. Портя вздрогнул — вот так и гибель вырывает из самой стремнины жизни еще не раскрытую судьбу.
«Нет! Нельзя о том думать! — испугался за свои мысли старый Портя. — Так думать — это только помогать злым силам».
— Люди! — крикнул старый Портя. — Станьте готовы!
Мужчины, переговариваясь шепотом, чтобы не привлечь водяного хозяина, стащили с себя рубашки. В костер подбросили сушняк, жарко полыхнуло пламя. Плесканула вода, и появилась гладкая голова, волосы закрывали глаза.
— Мишка Молотков! — выдохнул берег.
Громко плеснуло вновь, по плечи вырвалось плотное, бугристое тело.
— Ух-ай! Тимпей! — радостным смехом отозвался берег.
Мишка Молотков ухватился за лаву и стал вытягивать себя из воды, но мужчины, подбежав, выдернули его за руку и набросили шубу. Тимпей выскочил на мостки, быстро побежал к костру, и его укутали в тулуп. Яшка Кентин зачерпнул браги и не успел поднести, как рядом с берегом бесшумно, как гагара, выплыл Мишка Картин.
— О! Светлый Ясный День! — заликовали на берегу. — О Милый Шайтан! Юноша поднялся со дна реки, — закричали мальчишки и с разбегу запрыгали через костер, разбрасывая пламя.
— Мишка Картин больше всех ходил по дну! Мишка Картин самый сильный! Мишка!.. Мишка! — металось над берегом, а Мишка Картин, завернутый в шубу, придвинулся к костру, принимая из рук Яшки полный черпак браги…
— Иех! Ай-ю! — причмокивает губами Яшка. — Вам бы, ребята, сейчас огненной воды! Огнем бы она вас охватила!
Мужчины окружили ныряльщиков, похлопывали по плечам, поправляли на них шубы, подбрасывали сушняк в костер, а ныряльщики с наслаждением пили свежий, настоянный на хвое воздух, и глаза их сияли, отражая солнце. Как прекрасен, как распахнут мир, как он волшебно расшит красками, как он солнечно пронизан тончайшими струями звуков!
Старый Портя, всмотревшись в ныряльщиков, не уловил в их голосах, жестах, в движениях лица и губ растерянности, тревоги — и успокоился.
— Ну как, Тимпей? Шибко река тащит?
— Шибко, — засмеялся Тимпей. — Легче пуха лебединого себе показался. Кидает наверх, как искру из костра.
— Искру? — подал голос Мишка Молотков. — Ур-рр-бру… Щох-щох! Какой такой костер, вода вовсе ледяная. Руки стынут, и пальцы, как корни, топырит. Не хотят пальцы узлы затягивать.
— Не хотят пальцы узлы затягивать, — прошептал Яшка и снова зачерпнул бражки. — Выпей, Мишка, глядишь, пальцы запрыгают!
А старый Портя повернулся к Мишке Картину:
— Ты зачем, Мишка, так долго на дне сидел? Я думал, что тебя Виткась поглотил. Много еще работы?
— Совсем ничего осталось, — ответил Мишка Картин. — Еще два раза сходим, и готово!
Мужчины вновь опустили на веревках длинные, плотные, густо перепутанные корнями полосы дерновин, и трое юношей ушли в воду.
И снова притих берег, снова напряглась тревога, замерли дети, распахнув глаза, снова над гудением и плеском реки со свистом пронеслись ласточки. И вдруг в тишине громко застрекотала сорока, уселась на высокой сосне, задергала хвостом и дурашливо заорала. И к сорочиному полоумному крику потянулось жалобное баранье блеяние.
Вынырнул Мишка Молотков, махнул рукой, крикнул:
— Давай дерновину! — И погрузился.
Вынырнул Тимпей Лозьвин, выплюнул изо рта воду, судорожно проглотил воздух:
— Давай дерновину! — И, плеснув, ушел под воду.
— Готовьсь! — громко крикнул Мирон Картин. Что-то долго не выходит из воды брат его Мишка, не запутался ли он там в узлах и вязках.
Тяжелой рыбиной, изогнувшись, мощно выпрыгнул Мишка. Подгреб к лаве, к ногам Мирона и чуть сдавленным голосом попросил:
— Вот сюда, брат, опусти два тяжелых камня. И вязку мне давай!
Еще и еще погружались юноши и, чуть согревшись у костра, бросались в воду. И вот они ушли в последний раз. Это сегодня в последний… Ныряльщики теперь на все лето будут привязаны к запору; все время, пока стоит запор, будут они рядом, будут проверять, следить, смотреть за каждой щелью и латать эту щель, чтобы в нее не проскользнула ни одна рыбешка. В разгар лета это не так трудно — спадает вода в реке, прогревается, и в жаркий день ныряй себе сколько хочешь. Ныряльщики да старики, те, кого назначил сход, станут неусыпно день и ночь беречь запор, следить за ходом рыбы и здесь же обучать новых ныряльщиков. О, как они нужны Евре!
Мишка Молотков и Тимпей уже грелись у костра, им услужливо поднесли раскуренные трубки. И вот появился Мишка Картин.
— Все! — крикнул Мишка. — Все-е-е! — закричал Мишка Картин и запрыгал на песке, раскидывая руки, как поднимающийся с плеса орлан-рыболов.
И закричал, завопил, заплескался голосами берег, ожил, разгорелся в смехе, в тоненьких вскриках и посвисте мальчишек, в басистом раскатистом хохоте мужчин. Уткой крякали, гусем гоготали, ревели медведем и трубили лосем, рябком высвистывали и квохтали копалухой — во многих голосах ожил и заколыхался берег, крики донеслись в Евру, и бабушка Кирья выпрямилась.
— Женщины! Готовьте стол. Сейчас придут мужчины!
А мужчины хлопали друг друга по плечам, толкались, боролись в обнимку, и, падая, барахтались на теплом песке, и прыгали через костер, и плескали водой, словно только что поднялись с постели, словно не трудились они упорно несколько дней. Теперь осталась самая малость, и это сделают завтра, послезавтра, не торопясь, основательно и надежно опытнейшие рыбаки. В стене запора они поставят прочные, гибкие кямки — морды, на каждый пай по морде. Старейшие уже высчитали, сколько морд придется на пай — ведь чем круче запор, тем больше можно поставить ловушек — восемьдесят, сто или сто пятьдесят. Год от года менялся расчет паев — нарождались мальчики, умирали, погибали мужчины. Но точно никогда нельзя рассчитать: в запоре всегда оставалось больше десятка лишних морд — отсюда рыба пойдет в общий селянский садок.
Уже потом, глубокой осенью, когда рыба уйдет в сон, раскупорят селянский садок и добычу разделят между пайщиками, посчитают, сколько рыбы потянет пай, и разделят. Поэтому, когда будут ставить морды — кямки, из заготовленных лиственничных жалин сплетут плавучие садки, каждому пайщику свой, фамильный, или родовой, садок, если люди жили вместе и не делились на отдельные семьи. Плавучий садок достаточно велик — две-три сажени в длину, сажень-полторы в ширину, а в глубину — сажень, ну а селянский, тот прочный — собирался из крепкого частокола, что вколачивался в дно реки. Придет время, придет август — Кул Вытне Ёнкып, месяц посадки рыбы в садки.