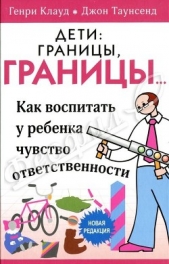Жить воспрещается

Жить воспрещается читать книгу онлайн
Одно из самых сильных произведений о концлагерях. Книга Ильи Исааковича Каменковича, написанная на богатой документальной основе рассказывает о злодеяниях варваров ХХ века — эсэсовцев, против самого невинного и самого беззащитного в Человечестве — детей, рисует правдивую картину героизма юных узников гитлеровских концлагерей и мужество борцов антифашистского Сопротивления.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да. Наверное, с тем, кто приказал избивать меня.
— Я хочу поговорить с тобой, прежде чем решить твою судьбу. Советую быть откровенным!
— Меня уже допрашивали. Не знаю, чего еще вы хотите…
— Назови свою настоящую фамилию!
— Я — номер 65463. Фамилию мне приказали забыть.
— Нам известно, что ты не тот, за которого себя выдаешь.
— Раз это известно, зачем нам время терять?
— Кому это нам? Ферфлюхте швайн! У тебя нет фамилии, для тебя нет и времени. Оно тебе ни к чему. Отвечай и не выводи меня из терпения!
— Я — 65463.
— Ты русский!
— Я советский, хотя и не русский.
— Мы это знаем. Эго ты пел на сборище в подвале дезинфекционного барака. Какие слова в этой песне?
— Скажу. «Замучен тяжелой неволей, ты славною смертью почил. В борьбе за рабочее дело ты голову честно сложил». Это любимая песня Ленина.
— Молчать! Не смей называть здесь это имя, или я тебя снова брошу в «горячую»! Ты должен подчиняться мне! Я с тобой сделаю все, что захочу. За одну эту песню тебя можно вздернуть!
— Я здесь уже видел такое…
— Давай поговорим по-деловому. Ты должен рассказать мне, кто тебя превратил в македонца, кто привел на собрание, кто еще состоит в организации, кто из русских гефтлингов выступал? Как попал в подвал портрет Тельмана?
— Никакой организации не знаю. Возле подвала в тот вечер я оказался случайно. Кто-то толкнул меня вниз, наверное, приняв за своего. Пел я потому, что собрание было в память хорошего человека. У нас даже колхоз есть его имени. Ни одного знакомого человека я на собраний не видел. Македонцем я назвал себя после побега из лагеря. Все.
— Послушай, — сдержанно сказал Крамке. — Только честное признание спасет тебя от виселицы. Скажи мне правду, и тогда я поверну дело — из политического в уголовное: ты работал на вещевом складе, а из склада украли материю. Я понимаю, ты не хочешь, чтобы товарищи сочли тебя предателем. Так вот, в присутствии других арестованных мы объявим, что наказываем тебя карцером на месяц за то, что из вещевого склада украли материю. И не думай, что это будет инсценировка! Нет, ты отсидишь в карцере все 30 дней до последней минуты, но зато не будешь трое суток болтаться на виселице. Спасешь себе жизнь и перед товарищами чистым останешься. Подумай как следует. Можешь не отвечать сию минуту. Покури, подумай.
Крамке протянул Мамеду сигарету.
— Почему не куришь?
— Какое там курение? Я и сидеть не могу — голова кружится… — Мамед еле ворочал языком. — Одежду от ран не оторвать…
— Я об этом подумаю. Надеюсь, кое-какие перемены ты успел заметить? Это сделал гауптштурмфюрер Крамке, запомни!
— Когда меня на столб подвешивали, мне тоже говорили: подарок от Крамке. Я не забыл…
Мамед пошатнулся. Словно сквозь сон услышал:
— Уведите его в ревир.
На воздухе ему стало немного легче. День был холодный, хмурый, безветренный. Плетясь через припорошенную снегом площадь в ревир, Мамед думал, застанет ли там Петра Никонова и доктора Павла? Чем кончится игра, которую затеяли с ним гитлеровцы? Свои карты Крамке открыл. Как бы предупредить товарищей об этой провокации?…
И еще пришло ему в голову; добыть бы в ревире скальпель, чтобы подороже продать жизнь… Конвоир подтолкнул его прикладом…
В ревире как будто ничего не изменилось. Большой барак по-прежнему напоминал мертвецкую. Как и прежде, здесь стояла тишина — тягостная, изредка прерываемая стонами. Она не давала покоя. Заставляла прислушиваться, присматриваться. На второй день Мамед понял, что октябрьские аресты не миновали ревира. Не появлялся Петр Никонов. Не было и доктора Павла. Кругом все новые люди, и кто знает, что у них за душой…
К койке Мамеда подошел врач и на немецком языке спросил, на что он жалуется. Мамед, не отвечая, расстегнул куртку. Врач начал перевязку и вдруг негромко спросил по-русски:
— Где это нас так угораздило обжечься?
— В «горячем» карцере.
— Ну, не мое это дело.
— Само собой… — Мамед пристально смотрел на усталое лицо врача. — Конечно, не ваше это дело.
— Я просто врач. И буду вас лечить, как обязывает меня долг.
— Долг значит… Перед тем, кто вас поставил сюда?
Врач не ответил. Молча закончил перевязку, молча пошел прочь. Но потом снова вернулся к койке Мамеда, сказал, понизив голос:
— Слушайте… Прежде чем получить назначение в ревир, я много месяцев отбывал в ассенизационной команде. Понимаете? Я голодал, отморозил руки. Надо мной издевались: вот мол, врач, удостоенный чести быть «золоторотцем»… Да, я поставлен сюда лагерным начальством должен быть благодарен судьбе и лечить всех, кто сюда попадает. Как положено врачу… Вот и все.
— Понятно, — сказал Мамед. — Почему люди сюда попадают — это вас не интересует… Я, между прочим, не по своей воле вертелся в «горячей», как шашлык на мангале.
— Это не мое дело, — упрямо повторил врач. — Я врач для всех и никому не сообщник. С меня хватит того, что пережил и что произошло на моих глазах с предшественником…
— Что с доктором Павлом?
— При аресте он оказал сопротивление и был расстрелян. Он уже никого лечить не сумеет. А занимайся он только лечением — жил бы до сих пор…
— Значит, убили… — с горечью сказал Мамед. — Какого доктора убили… он ведь сердцем лечил… Вам этого не понять…
— Прошу считать, что мы с вами не разговаривали.
Разговор этот заставил Мамеда задуматься. Может быть, врач хотел сбить с толку гестаповских агентов?
Может, просто притворился равнодушным и безучастным? Но нет, похоже, что так оно и пыло. Напуганный, усталый человек, больше ничего…
Вечером Мамеду стало худо. Его то знобило, то бросало в жар, он впал в забытье. Очнулся он, ощутив под мышкой холодок термометра.
— Здравствайт, — услышал он мягкий голос.
У койки стоял низенького роста человек в широком халате. Нос его, казалось, был расплющен сильным ударом. Из-под арестантской шапочки торчали крупные желтые уши. Толстенные стекла очков превращали его глаза в маленькие бусинки.
— Вот вам этвас покушайт, — сказал человек и положил под одеяло две картофелины, несколько галет и тоненький квадратик шоколада.
Мамед огляделся. Видно, его перенесли в другую комнату лазаретного барака. Здесь было всего пять коек. На соседней лежал без движения страшно исхудавший узник живая мумия. На другой койке метался в горячем бреду молодой человек. Две койки пустовали.
Человек в халате вытащил из-под мышки Мамеда термометр, посмотрел и сказал:
— Теперь хорошо. — И, широко улыбаясь, добавил: — В ревир бил гестаповский шпицлик, и ми решиль разлучить вас, сюда в изолятор.
— Кто это мы?
— Ми… медицина. Ви есть не за это?
Перевязывая особенно болезненную рану на плече Мамеда, он спросил:
— В и бил на столп? Как долго?
— Сорок семь минул.
— Ну, это еще нет много… След на плеч нам понятный примета,… Есть поэзия про тот ужасный столп.
Мамед кивнул. Он знал, что в лагере сложены стихи о столбе пыток:
— Мы вам делали карантин. Тиф нет. Завтра немецкий арцт [46] проверяйт и вас марш в ревир. Потом гестапо. Держился, геноссе!
Он быстро пожал Мамеду руку и, сильно припадая на левую ногу, ушел.
Утром следующего дня он снова очутился у койки Мамеда, и смущенно улыбаясь, сказал:
— Здравствайт, товарищ, а кушать никс… Скоро придет русский доктор. Геноссен просили передать: держался добре. Вам тебе верят — это есть бальзам!