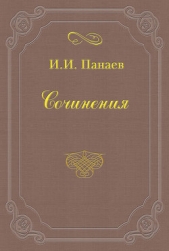Мишель

Мишель читать книгу онлайн
Новый роман Елены Хаецкой — это попытка пройти по следам поручика Мишеля Лермонтова, жизнь и смерть которого оставили потомкам множество загадок Почему его творчество так разнородно? Почему секунданты его дуэли так дружно лгали на следствии? Что за тело видели у подножия Машука день спустя после дуэли, если убитого поручика сразу же доставили в Пятигорск? Кем же был на самом деле этот юноша, поэт Михаил Юрьевич Лермонтов?
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ближе к центру было получше. Уже почистили и кое-что отстроили. Раннее ненастье витало над городом: осень ворвалась в Москву раньше времени, точно почуяла — не стало стен, способных сдержать ее натиск…
Мальчик родился в ночь на третье октября — слабенький, кривоногий, худенький. Маша, к удивлению матери, разродилась куда легче, чем это можно было предположить, хотя появлению на свет ребенка не слишком, кажется, обрадовалась. Ей показывали живую куклу, и она долго смотрела на непонятное существо, словно пыталась понять — откуда оно взялось. Потом улыбнулась и так и заснула — с улыбкой.
С барским заморышем возилась в первые дни только выписанная из деревни кормилица Лукерья, с полного одобрения Елизаветы Алексеевны. Юрий Петрович, полностью отстраненный женщинами от всех дел, проводил время у знакомых офицеров и снова вернулся к карточной игре.
Доброхоты из числа московских знакомцев пробовали «предупреждать» вдову Арсеньеву о наклонностях зятя, но та оборвала их так решительно, что все поприкусывали языки.
Крестили ребенка только через десять дней после рождения — боялись простудить. Юрий Петрович до последнего считал, что младенца назовут Петром либо Юрием — как было принято в лермонтовском роду, но здесь и жена, и теща обе оказались непреклонны, и мальчика назвали Михайлой, в память деда.
— Не боитесь, Елизавета Алексеевна? — спросил Юрий Петрович тещу, уже потом, тайно от жены.
Та величественно подняла брови:
— Чего я, голубь мой, должна бояться, по-твоему?
— Имя несчастливое.
— С чего это имя Михайлы несчастливое? — еще высокомернее удивилась Елизавета Алексеевна.
— Супруг ваш, говорят, печальной смертью умер, — брякнул Юрий Петрович.
По щекам вдовы пробежал легкий, едва уловимый румянец.
— Как бы он ни помер, мой Михайла Васильевич, а человек он был достойный и меня страшно любил. Я счастливую жизнь с ним прожила — и внуку моему того же пожелаю.
Она помолчала немного, а после добавила совершенно другим тоном:
— Маша хочет, чтоб в память папеньки…
И Юрий Петрович смирился.
После сороковин Марья Михайловна пошла на поправку. Начала выходить из дома, вся закутанная в шубы и платки, чтобы не застудиться, и в сопровождении свиты услужливых мамушек. Не такой хотела бы показать дочери Москву Елизавета Алексеевна. С кем ни заговори — все жалуются на дороговизну, на убытки, на потери. Кто имел такую возможность — все перебрались на несколько лет в свои подмосковные; в самом городе остались лишь немногие, у кого подмосковных не имелось.
Колокола, где сохранились, звонили исправно, и Маша ходила в церковь Трех Святителей, где крестили ее сына. Простаивала службы, иной раз слушала, а иной раз и уходила мыслями в далекие думы, бессвязные, полные странных теней. Мальчик, хрупкое, незнакомое существо, тянувшееся к ней бессмысленными ручками, наполнял ее сердце звериной нежностью. В эти мгновения она понимала мать. Она могла бы, казалось, носить младенца в зубах и без устали вылизывать его, как это делают тигрицы и волчицы. Но затем мысли о ребенке смазывались, растворялись, и в душе водворялась странная глухая тоска, у которой не было наименования.
Маша и мучилась этой тоской, и ждала ее с болезненным любопытством, ибо из сердцевины этой тоски неожиданно вырастала легкая, щекочущая боль, ожидание страха и страдания едва ли не с жадным любопытством. И, как и зубная боль, и как и боль при схватках, поначалу она была даже раздражающе-приятной и лишь по прошествии нескольких часов делалась невыносимой.
И связана эта боль была с Юрием Петровичем — не потому, что он нарочно причинял жене неудобства, а лишь потому, что Марья Михайловна его любила.
Он часто уходил из дома — то по делам, то к приятелям, играть в карты. Много не проигрывал — там, куда он ходил, на крупные суммы не играли, но увлекался и иногда засиживался. Случалось, Марья Михайловна вообще почему-либо не замечала отсутствия мужа, но в тот вечер, на исходе ноября, когда еще не выпал снег и город лежал под гнилыми дождями, что-то надломилось: несколько раз в одном только пуховом платке поверх домашнего платья выходила она на крыльцо и все слушала, слушала…
Наконец Елизавета Алексеевна не выдержала:
— Будет тебе, Маша! Что ты все слушаешь? Придет твой Юрий Петрович… И ушел-то недалеко, за две улицы. Хочешь послать за ним?
— Нет, — рассеянно отвечала она, — посылать неприлично… Разве что тайно, но кто теперь тайны держит… — И вдруг напряглась: — Не слышите, матушка?
— Что? — не поняла Елизавета Алексеевна.
— Бубенцы! — сказала Маша, поворачиваясь к матери с сияющим лицом. — Бубенцы гремят! Едут сани, едут!
Елизавета Алексеевна помертвела.
— Какие сани, Марьюшка? Распутица — откуда бы взяться саням?
— Бубенцы, — упрямо повторила Маша.
Мать схватила ее за талию, потащила в дом. Маша упиралась, хваталась за дверные косяки, плакала, с неожиданной силой несколько раз вырывалась из крепких рук матери.
— Пустите! Разве вы не слышите?
— Нет бубенцов! — твердила Елизавета Алексеевна, отцепляя пальцы дочери от косяка и вталкивая ее в дом. — Нет никаких бубенцов! И не будет бубенцов, поняла ты? Забудь о них!
— Бубенцы звонили… — плакала Маша, тряся головой.
Елизавета Алексеевна закричала во все горло:
— Лукерья! Дунька! Тришка! Сюда!
Набежали слуги, испуганные, всполошенные.
Дунька уже спать наладилась, явилась в рубахе, на ходу надергивая на голову платок.
— Несите барышню в постель, пока не простудилась, — распорядилась Елизавета Алексеевна, передавая на руки слуг плачущую, растрепанную Машу. — Удумала, мужа на крыльце ждать! Явится Юрий Петрович, ничего с ним не сделается.
Маша вдруг повела глазами сонно и бело и едва не упала — еле подхватили.
— Спит, — удивленно сказала Дунька, перестав завязывать свой платок, который упал сперва ей на плечо, а после соскользнул на пол.
Юрий Петрович действительно явился под утро, с воспаленными глазами, огорченный. К его удивлению, теща не ложилась еще почивать — встретила его, величественная, в полном домашнем облачении, с рукодельем в руках.
— Зайди ко мне, Юрий Петрович, — велела она.
И когда он вошел, кивком усадила зятя в кресла.
— Много проиграл?
— Да почти не проиграл ничего… Даже, кажется, выиграл…
— Что грустен?
— Не знаю, Елизавета Алексеевна… Мне в Кропотовку пора возвращаться. Там дела накопились.
— Какие могут быть дела в распутицу? Подожди, пока дороги станут. Пока сани поедут. С бубенцами.
Юрий Петрович не понял, при чем тут бубенцы, только щекой дернул.
— Ты часто с Машей бываешь? — спросила теща.
— Она, Елизавета Алексеевна, меня до себя не допускает, — сказал зять. — Не знаю уж, для чего я вам это открыл.
— Да уж есть, должно быть, причина, — отозвалась Елизавета Алексеевна. И так тяжело вздохнула, что зятю на мгновение стало от души ее жаль. — Ты поезжай в Кропотовку, Юрий Петрович, поезжай. Я тебе и денег на дорогу дам, только не проиграй их раньше времени. А там, Бог даст, все уладится. По весне повезу Машу и Мишеньку в Тарханы.
Юрий Петрович встал:
— Пойду я спать, Елизавета Алексеевна. А за заботы спасибо.
— Не о тебе забочусь, — проговорила она сквозь зубы. — Не благодари.
Москва худо-вяло начала давать балы, и тотчас обнаружились в ней румяные барышни, отважно наехавшие в любезную свою Белокаменную из подмосковных деревенек на зиму. Прежнего блеска в былой столице пока не было, но для чуткого человека делалось очевидным, что из печали и разорения московского пожара нарождается блеск совершенно новый, как бы иной на вкус. Сохранялось, правда, былое, традиционное изобилие тетушек и кузин — удивительное дело! Кажется, только Москва и является их рассадником, а в Петербурге родни почти не встречается, зато море знакомых по службе.
Несколько раз Елизавета Алексеевна вывозила и Машу, и она запомнилась удивительной игрой на фортепиано, которой дважды наслаждались московские салоны. Будь Елизавета Алексеевна мужчиной, она непременно вступила бы в Английский клуб, который, по слухам, в Москве процветал, невзирая ни на что; но, подчиняясь естеству, вдова Арсеньева довольствовалась несколькими довольно скромными по случаю послевоенного времени гостиными.