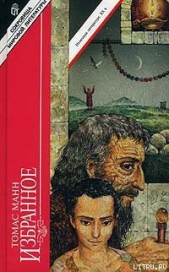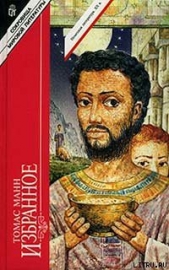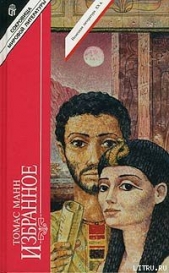Томас Манн

Томас Манн читать книгу онлайн
Томас Манн принадлежит к числу писателей, чье имя известно далеко за пределами его родины — Германии. «Будденброки», «Иосиф и его братья», «Доктор Фаустус» переведены на многие языки мира. Писатель, осудивший воинствующую империалистическую реакцию, вынужден был покинуть свою родину после прихода гитлеровцев к власти. Осуждение нацистского варварства, осуждение политики разжигания новой мировой войны характерны для творчества Т. Манна.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Одержимость эту можно назвать холодной, только признав совместимым понятие «холодный» и «одержимый». Но разве они совместимы? Голичер, узнав себя в Шпинеле, обиделся на автора «Тристана». Но разве у Шпинеля не было и кое-каких черт самого автора? В разговоре с Голичером Томас Манн, по-видимому, умолчал о собственных сомнениях в работе и, сохранив как раз в этом самом тревожном для себя пункте беседы обычную сдержанность, произвел на Голичера впечатление уверенного в себе писателя. Мы не знаем, какими именно сомнениями поделился с ним Голичер, не знаем, насколько серьезными и значительными показались они Манну, и не поручимся за то, что он не воспринял их лишь как пародию на свои собственные. Но взялся он за бинокль, во всяком случае, не по душевной холодности, а из горячего внутреннего побуждения, потому что «выговориться», «излить душу», «вернуться к жизни» способен был только через «литературу», только через посредника, пусть даже такого гротескного, как Детлеф Шпинель.
Успех
В феврале 1901 года Фишер сообщает, что к октябрю напечатает «Будденброков» без сокращений, вероятно, в трех томах, и готов уже весной издать второй сборник новелл. «Я сфотографируюсь, — пишет Томас Манн Генриху, — правая рука в жилетке фрака, а левая опирается на три тома; после этого, собственно, я могу спокойно отправиться в яму». Он еще не читал Чехова и не подозревает, что над напыщенной бессодержательностью смеется по-чеховски. Проходит время, и он, вероятно, забывает о такой своей шутливой реакции на радостное известие, но вот однажды он смотрит в театре, в Мюнхене, «Дядю Ваню», и одним из сильнейших впечатлений от пьесы у него остается реплика Марьи Васильевны, заключающая в себе, поскольку обращена она к профессору Серебрякову, претенциозному ничтожеству, тот же, по сути, комический образ, что и его, Томаса Манна, непроизвольная шутка: «Александр, снимитесь опять и пришлите мне вашу фотографию. Вы знаете, как вы мне дороги». Остается навсегда, до конца дней. Проходит еще несколько десятилетий, и в статье о Чехове, в том eе месте, где сочувственно говорится о непритязательной простоте Чехова, об его скромности, его нелюбви к позе, жесту, шумихе, он снова пользуется этим комическим образом: «Всю свою жизнь я не мог удержаться от смеха, как только вспоминал это: «Александр, снимитесь опять!», и Чехов виноват, если иной раз я кое о ком думаю: «Этому тоже надо бы пойти сняться».
Нужно ли лучшее, чем это пожизненное пристрастие к маленькой реплике Марьи Васильевны, подтверждение органичности такой реакции молодого человека на известие, которое, безусловно, сулит ему приятные материальные перемены и, весьма возможно, широкое читательское признание? Конечно, он взволнован и рад, но радость эта уже отличается от полудетского ликования, о каким он четыре с половиной года назад гордился тем, что его «статью нашли такой превосходной» и она «вопреки всем правилам прошла через два номера». Голичер употребил выражение «он знал себе цену». Вернее будет сказать, что теперь, написав «Будденброков», он знает себя. Он знает, что упоение внешним успехом не его удел, что свою жизнеспособность он мерит другой этической мерой, мерой в его случае эстетической, творческой, и что «блаженство обыденности» надолго ему не будет отпущено, ибо оно требует верности бессодержательной, на его взгляд, системе мер. Он знает — и говорит об этом в том же письме, где делится с братом своим счастьем дружбы, где сравнивает литературу со смертью, где сообщает о решении Фишера и шутит насчет позы для фотографии, — что настанет день, и «день этот недалек», когда он «снова будет заперт» с литературой наедине. Он намеренно оттягивает этот день и потому откладывает поездку в Италию, деля себя между «литературой», работой над «Тристаном», с одной стороны, и «простейшими радостями»: радостью дружбы с Паулем Эренбергом, радостью оттого, что судьба романа определилась, — с другой. «Я отрицаю и иронизирую, — пишет он Генриху через несколько недель, 1 апреля, — собственно только за письменным столом по старой привычке, а вообще-то я хвалю, люблю и живу, и так как вдобавок наступила весна, то все вместе просто праздник». Однако дальше следуют слова, в которых слышится не отрицание, нет, этого праздничного настроения, но ироническая, вернее, объективно скептическая его оценка, понимание его кратковременности, его необеспеченности природными задатками, требующими иных «праздников» — пусть простят нам анахронизм, мы употребим выражение из тетралогии об «Иосифе» — «праздников повествования»: «Если я уеду, то первым делом это пройдет и так не повторится: это уже известно. Я удержу это до последнего мгновения».
Но уже, по-видимому, в том же апреле он прерывает работу над «Тристаном» и уезжает во Флоренцию. Во всяком случае, к началу мая он успевает и увлечься своей соседкой по столу в тамошнем пансионе, некой молодой англичанкой мисс Мэри Смит, и при взаимности этого увлечения отказаться от мысли о браке с ней. Было ли его чувство глубоким? Примерно через год он посвятит Мэри Смитновеллу «Gladius Dei» 11; «То M. S. in remembrance of our days in Florence» 12. Через три десятка лет он найдет нужным упомянуть об этом романе в «Очерке моей жизни». Однако уже в первых числах мая 1901 года, после поистине считанных дней знакомства с Мэри Смит, он пишет брату о ней из Флоренции: «She is so very clever 13, а я так глуп, что всегда люблю тех, кто clever 14, хотя долго соответствовать им не могу». И еще в том же письме: «Я уже снова готов. Последние мои мюнхенские переживания и перемена воздуха перестают действовать, и у меня уже опять бывают трудно переносимые часы». Не звучит ли и в этих словах скептическое предчувствие возвращения к «литературе», в которой тоже изверился и бегством от которой эта поездка, может быть, и была? И не была ли эта влюбленность, как и та дружба, тоже лишь бегством от нее, но бегством уже вторичным, не столь упорным? И не поэтому ли она тоже оставила в памяти след на всю жизнь?
Изложение флорентийского эпизода в «Очерке моей жизни» не дает ответа на эти вопросы. Оно не содержит психологического экскурса в прошлое и, объясняя разрыв самыми тривиальными житейскими соображениями, с присущим автору тактом уравнивает обе стороны: «...мы нежно полюбили друг друга, и между нами шла речь о том, чтобы закрепить нашу взаимную склонность браком. В последнем итоге меня остановила мысль, не рано ли мне жениться, возникли и некоторые опасения в связи с тем, что девушка другой национальности. Мне думается, юную британку тревожили те же сомнения, и обоюдное наше увлечение ничем не кончилось». Поэтому мы воздержимся от каких-либо категорических утверждений или отрицаний, полагая, что сама постановка этих вопросов выражает наш взгляд на скоротечный роман с Мэри Смит достаточно ясно.
В июне, во всяком случае, он уже опять в Мюнхене — заканчивает «Тристана», работает над «Тонио Крегером» и держит корректуру «Будденброков». А потом впервые, пожалуй, после гимназических лет устраивает себе длительные каникулы и даже не определяет заранее их продолжительности. Вместе с Генрихом он едет в Южный Тироль, в горный санаторий в окрестностях Мерана. «Здесь живется хорошо и отдохновенно, — пишет он оттуда Паулю Эренбергу в июле. — Санаторий стоит совершенно уединенно среди просто великолепного горного ландшафта, водопад создает внизу, в долине, невероятно успокоительный шум, и мы ведем самый рациональный и самый освежающий образ жизни, какой только можно вообразить. Наш дом находится, так сказать, вблизи облаков, а иногда даже в облаках, что, конечно, романтично. Каждый день мы проводим почти по десяти часов на вольном воздухе — воздухе тысячеметровой высоты, свежем, чистом, душистом — и позади у нас несколько порядочных восхождений. Но это только подготовка, скоро предстоит взятие вершины, а дальше на очереди главный номер — настоящая вылазка на ледник... Наверно, я останусь здесь до конца следующего месяца» И остается, и за рукопись, которую взял с собой, не садится... И, возвратившись в Мюнхен, дожидается выхода «Будденброков», после чего снова уезжает на озеро Гарда, в Северную Италию, где «читает и пишет только украдкой» и почти все время отдает прогулкам и гребле...