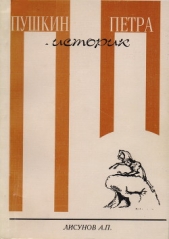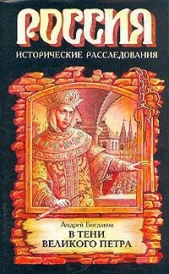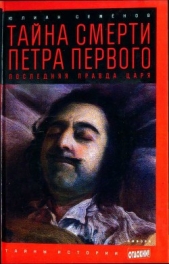Смерть Петра

Смерть Петра читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Какую сказку? – снова не понял Петр.
– Простую, – несколько даже рассерженно ответил Никитин. – Какие тебе мамки сказывали. И про медведя, что на дерево влез, и про Бабу Ягу – костяную ногу, и про ту красавицу девку, которая тебе всю жизнь грезилась, да так и не встретилась, и про пир, на котором ты никогда не бывал, а до смерти самой грезишь попасть. Чем больше художник не осуществил себя, чем в нем более сказки, тем он надежнее прилежен времени; в памяти людской останется… А вот Вартора я тоже хотел найти, – рука была у мастера отменная, да как в воду его полотна канули. Порядка нет в державе, Петр Алексеевич, нет порядка, и ждать его неоткуда.
– А – от меня?
– На одном человеке порядок не станет, мочи на это нет.
– Испортился ты, Иван, разъезжая по басурманским Европам, – усмехнулся Петр. – Кнут по тебе скучает.
– Не задирай мастера, – в тон государю ответил Никитин, – а то таким тебя изображу, что внуки ахнут. В нас – память человеческая, нас холить надо.
– В холе разнежишься, мастеру надобно ощущать вечное неудобство, как ручью, что путь к реке ищет; поиск – та дорога, по которой можно жизнь пройти в радости и без страха смерть увидать, потому как она мигом жахнет; ее тогда страшно, коли ждешь, медленно затаившись, и химерами всяческими стараешься избечь…
– Не зря Василь Васильич Голицын в своих хоромах держал твой портрет, писанный в отрочестве, наравне с парсунами князя Владимира и с Иваном Грозным, – хитер старик, чужой ум загодя чувствовал…
– При чем тут ум? Просто-напросто боялся, оттого и держал. Софье служил, не мне. Думал портретами гнев отвести; политик загодя себя обставляет, потому как ежели умен – более о поражении думает, чем о победе. Привел бы Соньку на трон, меня б похоронил и следа б не осталось… Да и в уголку я у него висел, на самом невидном месте; у «царственного большия печати и государственных посольских дел сберегателя» нюх лисий… На самом видном месте что он держал, не помнишь?
– Помню, как не помнить.
– А ведь за те немецкие листы, что он хвастливо на всеобщее обозрение представил, плачено было по пять рублей за штуку; деньги – при его-то скаредстве – большие. И королей вывесил басурманских, а ведь при людях плевался на Европу, жидовинью корил…
– Такое уж у него было иностранное дело, Петр Алексеевич, – ответил Никитин, пристально охватив чуть раскосыми глазами лицо царя. – А память у тебя как у художника… Страшная у тебя память: что раз увидал, того топором не вырубишь.
– Потому мы с тобою и любим стакан выпить поутру, Иван, – вздохнул Петр, – сие мысль, а она благостной бывает редко, в ней чаще всего грусть сокрыта али какой подвох, понятный одному тебе старому и не всесильному… Уже…
– Ты истинную силу только сейчас и набрал, Петр Алексеевич…
– Истинная сила исчислима тем, каким ты просыпаешься поутру, Иван… Сколько звонности в тебе и радости: как птиц слышишь, хлопья снега, шум дождя… Сила – это когда постоянная в тебе игра, Ванюша, беззаботность, а потому – вера в удачу, ожидание счастья, чуда, новизны, нежности…
– Чего грустен сегодня, государь? Не по тебе это.
– По мне. Только раньше хватало сил скрывать, а теперь – устал. Ты прав, порядка в державе нет; а это душу терзает, лишь порядок дает спокойствие… Когда все вокруг трещит и сыплется, а ты – один; когда других понимаешь, а они тебя – нет, тогда вот…
– Что? – после долгой паузы спросил Никитин, так и не дождавшись последних слов Петра.
Тот махнул рукой, поднялся, погладил художника по голове, вышел.
…И вот сегодня, заехав от Фельтена в Адмиралтейство, Петр велел Суворову погрузить – только осторожно, палку получишь, коли кокнешь! – тонкую доску, завернутую в рогожину, и повелел везти себя к Никитину.
Возле моста сказал остановить коляску и долго смотрел на то, как чайки собачились над полыньями возле берега.
– Любишь этих птиц? – не повернув голову, спросил денщика.
– Белые, – ответил Суворов после недолгого раздумья.
– А попугай желтый! Коли я про Матрену спрашиваю, ты мне про Глашку не отвечай!
– Гневны вы, государь, оттого и отвечаю побоку.
– Плохая птица чайка, – убежденно сказал Петр. – Попусту мается, нет в ней работы во имя гнезда своего.
…В холодной, вот уж второй год не достроенной мастерской было сумрачно, хотя Никитин, как обычно, жег много свечей.
– Принимай подарок, – сказал Петр. – Говорил, что свое только в чужом правдиво предстает, со всеми ошибками, – держи венецианский шпигель на память.
Никитин зачарованно наблюдал, как Суворов разворачивал зеркало; поцеловал государеву руку; потом словно бы забыл о нем; зеркало перенес к креслу, начал его так и сяк вертеть, подвинул поближе портрет дочки светлейшего и – словно ударили его под дых – аж выдохнул:
– Гляди, Петр Алексеевич, гляди-ка! У ей левый глаз в стороне и словно бы плачет!
– А я в прошлый раз и без Шпигеля заметил, – удивился Петр.
– Чего ж мне не сказал?
– Я полагал: такова мысль твоя – передать разность чувств, сиюмоментно пребывающую в человеке.
– Как ты сказал? «Разность чувств в человеке, сиюмоментно пребывающую»?
– Ну…
– Зачем же ты согласился своему Танауэру да парижанину Караваку позировать?! Разве могут они тебя понять? Ты ж в каждый момент разный; у тебя речь рваная, а за словом – фраза сокрыта! Они ж глазыньки твои малюют для шику и на удивленье зрителям, – чудо что за глаза, красота! – а они у тебя круглые, птичьи; они ж дают подмастерьям латы рисовать или Александровскую ленту помуаристей, чтоб взгляд привлекало, им до твоей тоски дела нет!
– А ты зачем на них прешь, Иван? Мою тоску тот до конца поймет, кто наш с тобой язык от отца с матерью взял, всякому тонкость в полслове чует… Разве они повинны, что не русскими родились? Разве плохо они мне служат?
– Служат – хорошо! Поклон им за то, что науку нам передали, только не давай ты более им себя писать! Не понимают они тебя! Я Людовика видел, – он рябой, с носа каплет, а ведь они его на картинах Аполлоном изображают, юношей беспорочным!
Остр усмехнулся:
– Думаешь, мне не нравится, когда меня таким малюют? Еще как нравится!
– Садись, вмиг напишу! – предложил Никитин. – Чего напраслину на себя несешь? Я про тебя, государь, все знаю, потому как картины, с тебя писанные, изучил, будто псалтырь…
– Расскажи.
Никитин принес из кладовки бутылку французского вина, посмотрел на свет:
– Кровь. Здоровье в ней. Каждого шестого августа сотворяю молитву над виноградной лозой: «Благослови, Господи, плод сей новый, иже растворением воздушным, и каплями дождевыми и тишиною временною, в сей зрелейший час прийти благоволивый; да будет в нас от того рождения лозного причащающихся в веселие и приносить Тебе дар во очищение грехов, Священным и Святым Телом Христа; с ним же благословен еси со пресвятым, и благим и животворящим духом Твоим, ныне и присно и во веки веков, аминь!»
Выпили; Петр закусил сыром.
– А знаешь, какова у меня самая любимая молитва? – спросил Петр задумчиво.
– Прочти.
– «Скорый в заступление и крепкий в помощь, предстани благодатию силы Твоея ныне и, – благословив, укрепи, – и в совершении намерения благою дела рабов твоих произведи; ибо всяк, кто хочет, как сильный Бог может творить!»
Никитин налил по стаканам остатки, заметив:
– Последние слова этой молитвы изменил ты: «вся бо елико хочещи, яко сильный Бог творити можеши».
– Верно. Только что дает человеку силу: слово, которое он понял и почитает своим, либо же приказной текст, принужденный к зубрежке? Свое делает человека сильным, Иван, и ты это не хуже меня знаешь. И Танауэр, хоть меня красавцем малюет, это понимает. Кому из мужиков есть дар делать новое – те только и понимают смысл слова «свое», не шкурное в нем видят, а, наоборот, то, что ко всеобщему благу оборачивается.
– Ей-богу, вот бы тебя написать таким, каков ты сейчас, – сказал Никитин.
– Пиши.
– В один сиянс не уложусь, подари хоть три…