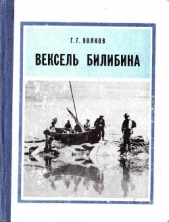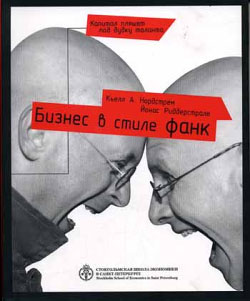Глухая пора листопада
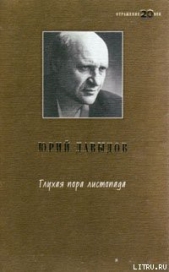
Глухая пора листопада читать книгу онлайн
«Глухая пора листопада» – самый известный в серии романов Юрия Давыдова, посвященных распаду народовольческого движения в России, в центре которого неизменно (рано или поздно) оказывается провокатор. В данном случае – Сергей Дегаев, он же Яблонский...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Очень понимаю, – живо откликнулся чиновник. – У меня, Дмитрий, тоже мать-старушка, как не понять. Примерный сын, похвально. А мы вам, Дмитрий Яковлевич, за все и заплатим. Что? Ой, господи, как же вы так превратно поняли? Деньгами заплатим. Что-с? Привыкли работать и за работу получать? Опять же похвально. А как иначе? Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. Конечно, за работу. Мы работу дадим. Мы здесь тоже в социализме малость смыслим, да, да, не думайте, пожалуйста. Вот хоть меня взять. Не улыбайтесь, не улыбайтесь. Я, ежели хотите знать, социалист. Но государственный! Да-с, государственный социалист. Коли изволите, социал-монархист. В социализме есть зерно истины. Капиталисты, согласен, обиралы, наживалы, захребетники. Но только твердая власть может защитить бедных, заставить богатых поделиться с бедными. А нам мешают, не дают, к жестокости понуждают. А куда, к чему зовут вас народовольцы? «Воля», хе-хе-хе… Да они к власти рвутся, сами для себя, вот что, Дмитрий Яковлевич. Вы хоть и народоволец, да они и вас вокруг пальца обводят, а мы вам, ей-богу, поможем.
Сизова поташнивало. Встать бы да и хрясть эту сволочь по соплям, встать да и припечатать, чтоб дух вон. Но Сизов не взорвался. Повторял:
– Другой работы не возьму, я свою люблю. И денег не возьму. Отпустите вы меня, не наигрались, что ли?
– Какая игра? Какая игра, господин Сизов? – приобиделся Скандраков и короткими ножками посучил. – Кто же это играет? Я с вами играю? – И выдохнул с чувством: – Эх, Дмитрий, Дмитрий!
– Знаю, как вы играете, – бухнул Сизов.
– Знаете? Откуда же? Кто рассказывал? Ведь не с неба ж, а? Ну кто? Кто?
– Насильничаете, – озлобился Дмитрий, сознавая, что не следует так отвечать, но уже почти не владея собою.
Теперь Скандраков и вправду обиделся. Новатор в секретной полиции, он не считал себя инквизитором, понимая насилие в прямом, физическом смысле. Замечание Сизова задело его.
– У вас к нам нехорошее отношение, – молвил Скандраков со строгой укоризною. – Мы отечество от хулы и хаоса бережем, а вы… «насильничаете»! Ну кто это вам внушил? Откуда вы это взяли? Я вам открою: раньше, в прежние-то времена, бывало, хотя и тут много напраслины возводят. Но теперь! Э нет, Сизов, вы это запомните: никаких насилий. Вы вот лучше скажите-ка, кто вам внушил такое?
– Ничего не скажу, оставьте меня.
Скандраков молча рылся в бумагах. Потом устало вздохнул.
– Н-да-с, характерец у тебя, Сизов, не леденец. А братец единокровный, тот, знаешь ли, покладистее.
Дмитрий не понял. Только будто гром отдаленно прогремел.
– Помоложе годами, – продолжал Скандраков, твердо уставляя в Дмитрия бутылочные глаза, – помоложе, но, знаешь ли… – Он приложил палец ко лбу. – Себе на уме молодой человек-с.
Сизова как на ухабе подбросило.
– Врешь, сволочь!
Бдительный палец Скандракова мог бы и не нажимать пуговку электрического звонка: верзила-гайдук был уж в кабинете.
– Ничего, ничего, – повторял Скандраков, адресуясь не то к верзиле, не то к себе самому, а может, и к Сизову. – Ничего, бывает. – Он щелкнул серебряным портсигаром. Удивительно, как портсигары вовремя приходят на помощь чиновникам политической полиции. – Садись, садись, Сизов. Куришь?
Дмитрий кивнул. Ему было так скверно, что он и не подумал, следует ли тому, кто «в революции», одолжаться табаком у врага. Гайдук подал папиросу, поднес спичку. Дмитрий затянулся, голова у него пошла кругом, точь-в-точь как в мальчишестве, когда он впервые прилепил самокрутку на мокрую губу. Скандраков поплыл, по столу заходили враскачку медные высокие подсвечники, Дмитрию казались они циркулями, какие были в чертежной при мастерских.
Скандраков опять заговорил. Он не называл имени Нила, он как бы в пространство рассуждал о тех, что «хоть и помоложе, но…». И Дмитрий уже не вскакивал, не кричал, а сидел пригнувшись, зажимая в кулаке папиросу, и, коротко, быстро затягиваясь, слушал Скандракова:
– …выпустим, конечно, зачем держать, но я не вправе скрыть некоторые обстоятельства: станут часто сюда приглашать, вам, батенька, от этого не уйти, ну и, натурально, заподозрят товарищи ваши, то-се, шепотком, а потом, смотришь, и нож найдется, как уже случалось не раз. А скрыться… – Он ладошками в стороны махнул, как ангелочек крылышками. – Скрыться, не обессудьте, не придется. Вы вот не цените моей доверенности, а я вам прямо говорю: филеров приставлю-с. И, ей-богу, зря упрямитесь.
Освободили на масленицу. Сизов, щетинистый, вшивый, вышел из арестантского дома в гукающую теплую метелицу. Он чуть было не угодил под бубенчатого троечника, бабьи румяные лица вспыхнули, из трактира пахнуло блинным духом, и Дмитрию вдруг захотелось плакать, напиться и плакать, обминая пальцами чьи-то обнаженные круглые плечи.
Сани летели плавно, как сама государыня-метелица, Дмитрий слышал женский смех. Наверное, и мужчины смеялись, он слышал только женщин. А сани мчали к Новодевичьему монастырю, туда, где гуляет широкая масленица, где балаганы, горки и снежный дым над Москвой-рекой, до самых Воробьевых гор. И по Тверской бежали санки, легко оставляя позади унылую конку, к Петровскому замку летели, на большой круг в роще, где тоже гуляли.
Уже болезненной синевою подрагивали керосиновые фонари, уже освещались окна, в них шатались тени, а метелица все гукала, ходила плавно, как и положено на Москве в масленую неделю.
Мама поднялась, у Саши ладони метнулись к щекам. Мама не кинулась, не обняла, брови у нес затрепетали, еще черные красивые брови, такие же, как у сыновей, мама не кинулась, не обняла, а перекрестила дрожью пальцев и молча поклонилась низко.
– Здравствуй, мам.
Она заплакала.
– Нил дома?
Он же видел, что брата нет. Он спросил машинально, про Нила подумав мельком. Молчаливый мамин поклон сразил его, ему нужно было услышать ее голос, вот он и спросил про Нила. Но она не отвечала, она плакала. Дмитрий взглянул на Сашу. Саша медленно отняла ладони от щек и опустила глаза, и Дмитрий опять подумал про брата, но уже не машинально, не мельком, а с отчетливой, пронзительной тревогой.
4
У Никитишны, в «гранд-отеле», чуть не исподнее пропивали: потому как масленица и без «монаха» обойтись нет возможности.
«Гранд-отелем» именовал эти смрадные подвалы сосед Нила, бывший акцизный чиновник, насмерть отравленный зеленым змием. А «монахом» прозывался штоф оглушительной водки, и разминуться с ней, да еще на масленую, действительно никаких способов не обнаруживалось.
По случаю праздников хозяйка оделила братию полудюжиной сальных свечей, и теперь в гостиной или в зале, то есть в одном из самых обширных подвалов, относительно сухом и теплом, стабунилась вся золотая рота. Благодушно присутствовал и городовой, тоже здешний обитатель, с очень звучной фамилией – Сенатский.
И сама Никитишна, ворчунья и скупердяйка, но приглядеться, не такая уж и ведьма, завернула к постояльцам, и рюмочку восприняла, и угощением не побрезговала.
Угощение было копеечное – рыба вареная. Зато бутылки – початые и еще не початые – составляли главную часть пиршества, как пожарный обоз во время смотров у Китайской стены.
– Не откажи, – ласково подносил хозяйке рябой мужичонка в красной палаческой косоворотке. – Выпей, родная.
– Пусть Манька спляшет тогда уж, – кобенилась Никитишна. – Коза, а Коза? Слышь, что ли? Будет тебе… – она вышамкала непристойность.
Из тонувшего в темноте угла отозвался плаксивый, с придыханиями голос:
– Только Сенечку приворожу, Никитишна требует…
Публика расхохоталась. У Никитишны мелкие слезочки брызнули, так и залилась. А рябого в красной рубахе облапил, покачиваясь, чубатый Вася-драгун и тоже пристал:
– Выпей, ваше благородь, мы ж к тебе всей душой!
– Гм… душой! – потешалась Никитишна, отпихивая его руку со стопкой. – Иде она у тебя, душа-то? Черту заложил душу-то.
Всякого, не в ладах кто с полицией, Петербург выручал проходными дворами, а Москва – подвалами. В отличие от петербургских, обособленных, наглухо замкнутых, московские подвалы дружественно сообщались то дверью, невесть для чего сделанной, то каким-то пещерным лазом, то почти крысиным ходом, как бы прогрызенным в кирпичной кладке. Можно было, как в здешних, приютивших Нила Сизова, нырнуть в преисподнюю у Красных ворот, а вынырнуть на свет божий чуть не на Каланчевской площади. Ничего не стоило заблудиться в подземельях, где утробно урчали сточные воды, где тьма пахла поганками, рухлядью, где ненароком и на труп наскочишь да и заорешь благим матом.