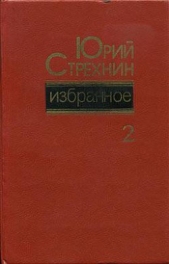Избранное. Том 2
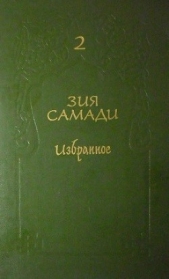
Избранное. Том 2 читать книгу онлайн
Второй том избранного З. Самади составили романы «Гани-батур» и «Маимхан».
В первом из них автор изображает национально-освободительную борьбу под руководством народного героя Гани-батура, начавшуюся несколько лет спустя после разгрома восстания Ходжанияза и приведшую к созданию временного революционного правительства в Восточном Туркестане.
События второго романа переносят читателя в более далекую историческую эпоху — в XIX век. И здесь, как и в предыдущих романах, — главная тема — тема освободительной борьбы против чужеземных захватчиков. С большим мастерством и теплотой рисует автор образ своей героини, славной дочери уйгурского народа Маимхан, отдавшей жизнь за свободу.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Спасибо, сынок, — ответила хозяйка, пряча деньги под одеяло. Гани показалось — она догадывается, что этот долг он выдумал.
— Я пойду, а на днях еще загляну, — сказал он, вставая. Девушке очень хотелось, чтобы джигит побыл еще хоть немного, но она, конечно, не решилась показать это. А Гани с большим трудом заставил себя подняться.
— Если что-нибудь спешно понадобится, а меня близко не будет, найдите Рахимджана Сабири, — сказал Гани девушке, когда она вышла проводить его до ворот. — Якуп-ака должен знать его. Он поможет во всем. Прощайте…
Девушка осталась стоять у калитки и слушала, пока не стихли шаги джигита, а потом заплакала.
С нетерпением ожидавший возвращения друга Махаматджан выскочил ему навстречу, лишь только показалась его тень на дороге, и крикнул:
— Что ты семенишь, как китаец-разносчик! Шире шаг! Уже светает.
— Случайно Хромого не упустил?
— Вон он, за деревом, дрожит, как паршивый кот.
— Замерз, однако. Да чего же тощ этот подонок!; Хоть всю Кульджу сожрет, все равно в весе не прибавит. Это его мерзость его самого изнутри жрет.
— Чего вы на меня накинулись? Вам добро делаешь, а вы вместо благодарности… — захныкал Хашим.
— На, держи, можешь хоть сейчас пропить, — Гани бросил ему деньги. Тот, подхватив их на лету, быстро побежал от друзей, нелепо вздергивая на ходу хромую ногу.
— Ты, я вижу, веселый, — сказал Махаматджан, присматриваясь к Гани. — Неужели с Чолпан повидался?
— Виделся. Но только мало от свидания радости было… Сделаем так: ты сейчас поезжай в лощину Жиргилан и жди меня там, а я возьму коня у Абдуллы и тоже туда приеду.
— Может, вместе к Абдулле-ака сходим?
— Нет, не надо. Вот эти деньги отдай Омару, пусть он передаст моим… Ну, будь здоров. — Гани пошел в сторону квартала кузнецов.
Пройдя переулками, он быстро добрался до дома Абдуллы. Года три назад он не раз бывал здесь вместе с Давуром. Он не подозревал об измене своего бывшего товарища и потому шел спокойно. А Давур уже сидел в засаде вместе с китайскими чериками.
По своему обыкновению, не желая беспокоить хозяина дома в столь поздний час, Гани, не стучась в калитку, перемахнул через высокую стену и двинулся к конюшне, чтобы взять коня.
— Стой! — два черика словно из-под земли выросли перед ним, одновременно щелкнув затворами. Гани стремительно повернулся, но там уже трое наставили на него винтовки.
— Черт! — застонал Гани, поняв, что попался в ловушку. — Как глупо! Если бы конь…
— Теперь ты долго на коня не сядешь, Гани, — услышал он вдруг до боли знакомый голос и злорадный смех.
— Так это ты?! И я считал тебя своим другом? Ну что ж, поделом мне, дураку…
— Правильно, себя вини, — сказал Давур.
— Предатель, собака!..
Скрутив батуру руки, черики повели его со двора.
Глава девятая
Каждое утро Гани просыпался с рассветом, осторожно, на цыпочках, подходил к зарешеченному окну и подолгу смотрел на небо. Окошко было маленьким, сквозь толстую решетку виднелся лишь маленький кусочек неба. Но и он отзывался в сердце узника радостью, вселяя в него надежду и новые силы. Для Гани с его душою, похожей на могучую и беспокойную реку, с его постоянной потребностью степей, высоких гор и свежего, вольного ветра, заключение было особенно тяжело.
Он неотрывно смотрел на этот клочок неба, и особенно сильно билось его сердце, когда там, в вышине, проплывали птицы, его небесные сестры.
Как-то раз, увидев сквозь решетку быстрых голубей, острой болью напомнивших ему его детство, он кинулся к окну, подтянулся сильными руками на прутьях решетки, но гром кандалов на ногах разбудил его товарищей по камере. Однако птицы показывались редко — лишь мелькнет когда вдали быстрая ласточка и тут же исчезнет…
Рассвело. Караульные криками будили заключенных, те просыпались с кашлем и стонами, с грохотом отпирались двери камер. Но Гани не отрывался от окошка, как будто не мог насытиться видом неба. Сейчас он не обращал внимания на кандалы — а они весили немало — около пятнадцати жинов [26].
— Беркут! — вдруг вскрикнул он и приник к окошку, весь устремившись в небо, туда, где медленно плыл его крылатый брат. Разбуженные его криком узники зашевелились, один из них приподнял голову:
— Эй, батур! Уйди ты от окна, если увидят черики, худо будет.
— Я говорю вам — беркут! Беркут! Вот он парит в небе, — повторял Гани. Но один из узников, казах Кусен, оттянул его от окна — кто-нибудь из чериков мог и выстрелить…
Каждое утро, кое-как умывшись, арестанты начинали рассказывать друг другу свои сны, стараясь истолковать их значение. Самые религиозные сразу приступали к молитвам. После так называемого «завтрака» каждый занимался своим делом — кто чинил свою ветхую одежонку, кто выискивал вшей, кто убивал время за разговором. Шестеро узников сразу же душой потянулись к батуру — он много повидал и умел рассказывать об увиденном захватывающе. Обычно он бывал весел, его шутки и смех развеивали печаль арестантов, после его забавных рассказов их положение начинало казаться им не таким уж безвыходным.
Но последние три дня Гани не отходил от окна, был хмур, задумчив и молчалив. И все обитатели камеры вслед за ним помрачнели и стали неразговорчивы. Вот и сейчас, не выпив чаю, Гани снова подошел к окну и уставился в него.
Соседи по камере уважали и любили батура, поэтому не стали ему больше мешать и молча занялись своими однообразными делами.
«Эх, увидеть бы хоть еще разок этого беркута. Что за счастливая птица! Мне бы его волю хоть на один день! Первым делом я отомстил бы предателю, а потом…» Гнев охватил Гани, и он в бессильной тоске бросился на нары, тщетно пытаясь разорвать оковы.
— Гани, успокойся, — тихо сказал ему Кусен.
Гани посмотрел на Кусена невидящими глазами и ничего не ответил.
— Эх, дурак я, дурак, — тихо говорил он самому себе, — силу свою, молодость потратил на глупости… Самое дорогое, самое ценное на свете — это воля! Эх, мне бы быть таким свободным и вольным, как этот беркут!.. Ведь я же — человек, так неужели мне — человеку — не дано даже такой свободы, какая есть у птицы. Нет! Мы все должны быть свободными, должны быть!..
Он оставил попытки разорвать кандалы, затих. Свобода казалась ему отблеском солнца, отблеском, который унес на крыльях в поднебесье тот беркут… «Почему я раньше не понимал всего значения этого слова — свобода? Только теперь я по-настоящему осознал, что это такое. И мне открыли глаза они, мои тюремщики, мои палачи. Здесь я пробудился от сна. Выходит, нет худа без добра». И Гани показалось, что его руки вновь обретают былую силу, а сердце наполняется спокойствием и хладнокровием.
— Чай твой давно остыл, попей хоть немного, Гани, — тихо сказал Кусен. Этот казахский парень за дни заключения стал для батура братом.
— Что же, мне за тебя пить этот чай? — Голос Кусена дрогнул, и Гани мысленно выругал себя за то, что заставляет мучиться друга. Он подошел к Кусену, сел рядом и сказал, ласково погладив товарища по плечу:
— Да что торопиться, никуда этот чай не денется и хуже не станет, остыв, — хуже некуда. Такой чай и собака пить бы не стала, — он взял в руки чашку с бурого цвета жидкостью, от одного запаха которой тошнило. Но что делать? Желудок надо было чем-то наполнять — вот и приходилось глотать этот «чай». Лишь для того, чтобы успокоить друга, Гани сделал несколько глотков, а потом молча прошел на свои нары и лег.
То, что творилось с батуром, не могло не беспокоить Кусена. В последние дни Гани утратил свою природную веселость, на лицо его легли тени, его перестала освещать прежняя яркая улыбка. Он даже вроде стал меньше ростом — наверно, это казалось потому, что джигит сильно похудел. Кусен подошел к Гани, неподвижно глядевшему в потолок, прилег рядом и спросил тихо, чтобы другие не слышали:
— Что с тобой, Гани? — голос его был полон тревоги и озабоченности.