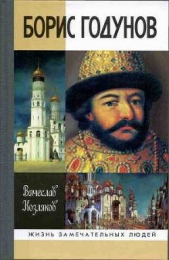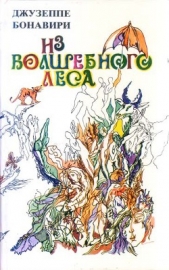Борис Годунов

Борис Годунов читать книгу онлайн
Высокохудожественное произведение эпохального характера рассказывает о времени правления Бориса Годунова (1598–1605), глубоко раскрывает перед читателями психологические образы представленных героев. Подробно описаны быт, нравы русского народа начала XVII века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Много было проговорено в Думе, и дошли наконец до трудного места. Рука Бориса Федоровича, лежащая на подлокотнике трона, постукивала жесткими ногтями. Борис Федорович перехватил пытливый взгляд Мстиславского, задержавшийся на нервно поигрывавшей руке, и сжал пальцы. Понял: слабость хочет увидеть в нем боярин. А того Борис Федорович выказать не хотел. Беспокоило в сей миг царя прежде всего: как откликнутся на его зов, пойдут ли в поход за ним ратные люди? Знал царь: в головах у многих сидящих с ним под расписными сводами мысли те же самые. Угадывал, что еще и так думают: «Ну-ка, Борис, давай, давай! Поглядим на тебя. Правителем быть одно, царем — другое. Раньше кричали: „За царя Федора Иоанновича, за род Рюриковичей!“ — и люди шли на смертную сечу. А что ты крикнешь? „За царя Бориса, за род Годуновых!“ А откликнутся ли на этот зов? Как бы не получилось конфуза. Давай, давай, Борис! Показывай себя. А мы еще не сказали последнего слова. Оно за нами».
Накануне, ввечеру, Борис Федорович вел разговор с Семеном Никитичем. Тот, осунувшись за последние дни, так сказал:
— Кряхтят думные.
И всегда дерзкие глаза его поскучнели, искры яростные погасли в них.
— Кряхтят, — повторил глухо.
А уж он знал, что говорил. У него, почитай, через дом сидели свои людишки и при нужде тут же добегали, куда им было сказано. По торгам, по кривым московским переулочкам, да и не только московским, бегали свои же люди. И не там, так здесь ушко такой человечек поставит, тайный говорок услышит и сей же миг — тук, тук — в заветную дверцу. Уходя от царя за полночь, Семен Никитич сказал:
— Трудно будет.
И уверенности в голосе Семена Никитича не было. Видать, знал, что можно и надломиться. Вон сколько нагорожено, человеческих судеб перевито единой оплеткой, чтобы посадить на трон Бориса, — и в одночасье все может рухнуть, ежели не поднимет новый царь людей в поход.
Ссутулил плечи Семен Никитич и вышел из царских покоев, неловко зацепившись за притолоку. На том и расстались. И сейчас Борис, сидя на троне в виду всей Думы, вспомнил дядькину спину, и тревога защекотала в груди. Борису показалось, что холодные подлокотники жгут руки огнем. Трон — деревянное кресло, а вот как может себя выказывать. То холодом обдаст, то жаром. И неживое, а как конь норовистый: не то взбрыкнет, не то шагом пойдет. Или вовсе на дыбы встанет.
Борис, завесив бровями глаза, оглядывал бояр. Видел — лица застывшие, напряженные, сумные. Сидят не колыхнутся, уставя бороды в пол. А там написано разве что? Мысли какие рассыпаны? Поди узнай. Всяк по-своему прочтет каменный узор и увидит свое. Лишь боярин Дмитрий Иванович Годунов — человек зело тихий и смирный, — задрав лицо, с тревогой и боязнью поглядывал на стучавшие под сводами слюдяные оконца. Его пугала непогодь. Вжимал, безмятежный, голову в плечи. Злого не держал в мыслях. А у Бориса Федоровича все скребло на душе, все саднило: не унялись знаменитые московские роды, не смирились и не отказались от потаенных до времени дум. Семен Никитич в другой раз это подтвердил.
Дмитрий Иванович отвел глаза от беспокоивших его оконцев и прямо взглянул на Бориса Федоровича. С удивлением — даже голову положил набочок — отметил, что улыбка тронула губы царя, и улыбка не добрая, но скрывавшая в себе тайную мысль.
«Господи, — перекрестил себя под шубой малым крестом тихий боярин, — чего же здесь тайного? Все явно».
Святой был человек — не видел беды.
А улыбка тронула губы царя не от доброты души. Борис Федорович решил так: он сейчас в глазах московского люда защитник отечеству. Кто же может воспротивиться ему в сем устремлении? Шуйские, Мстиславские, Романовы? Тогда во мнении России они станут изменниками отечеству. Вот как дело-то он обернул. И это многие из сидящих на лавках и без слов уразумели. Те, что поумней, еще и дальше заглянули: «Сейчас против Бориса идти — такую шишку набьешь, что и втроем не обомнешь». И другая мысль вошла в головы: «А и правда ли орда идет?» «Но нет, — тут же укоротили себя строптивые, — а грамота оскольского воеводы? Да и казаки передали, что пленного татарина в Москву везут. Вот-вот будет здесь… Однако к стенке припер нас Борис-то… Не взбрыкнешь». Увиделось: крикнет царь — предают-де бояре царство, — и московский люд всколыхнется. Для пожара, на Москве только и нужно, чтобы один выскочил наперед, не жалея себя, а тогда уж и пушки подкатят к Кремлю. С бояр срывать головы — народу всегда сладко. Паленым запахнет, и великое пламя вздуют. До небес. От таких мыслей многим стало нехорошо. Заерзали на лавках.
И все же верхние безмолвствовали.
Патриарх, сложив на коленях схимничьи руки, впился взглядом в царя.
Все ждали царского слова.
Борис выпрямился на троне. Наступил тот миг, когда разом надо было все определить и все расставить по местам. Промедление страшным грозило. Борис сжал подлокотники трона так, что кольца и перстни вонзились до боли в пальцы, сказал с приличествующей твердостью:
— Приговаривайте, бояре, — быть ополчению!
Темные глаза царя расширились.
Сидящие на лавках многажды слышали Бориса, когда он был правителем. И те же твердость, властность и сила были в его голосе. Уверенность была во взоре и смелость в лице. Но сейчас он сказал по-иному. Все было то же — твердость, властность, сила, уверенность, смелость, — но и еще одно услышали в его голосе: превосходство над каждым и над всеми.
Будто три покрытые алым сукном ступени, возвышавшие трон над сидящими на лавках, подняли разом Бориса так высоко, куда и заглянуть трудно, да и не дано никому из них. И это больно кольнуло в сердце многих.
По палате словно вздох пролетел, и сразу же все задвигались, а патриарх, оборотившись, взглянул на бояр.
После слов Бориса князь Мстиславский — первый в Думе — опустил голову, ковыряя что-то унизанными перстнями пальцами на поле шубы. И не великого ума был человек, но понял: так слабые не говорят. «Ишь ты, — подумал, — еще и не венчан, а головы нам гнет». Тоскливо стало ему от этой мысли, будто горькое проглотил. Он, Мстиславский, ветвь великого княжеского рода, а вот сидит и слушает худородного и по слову его поступать должен.
Борис, произнеся самое важное, молчал, как ежели бы сказанное уже не подлежало обсуждению, но стало сразу же неопровергаемым законом.
Семен Никитич привстал, глазами обводя лавки. Увидел: посуровели лица. Печатник Василий Щелкалов, соблюдая чин, сказал:
— По сему царскому велению следует указ воеводам составить, требуя от них ревности в службе.
И сказал это медовым голосом. Хитер, ох, хитер был печатник. К нему оборотились боярские лица. В глазах одно: «Ох, ты… Запел-то как Василий-то, дьяк дерзкий. Учуял, знать, жареное. Ведь против Бориса первым пер. На Красное крыльцо бегал народу кричать о присяге Думе. Нет, здесь не от дури мед в голосе». И другое в глазах было не у того, так у иного: «А я-то что? От глупости, выходит, упираюсь Борисовой воле? Чьи голоса-то слушаю? Шуйских, Романовых? Да что мне до них? Эти всегда были прыткими. Ах, Василий, Василий… Нет… Придержать надо свою дурь, а то вот такой и без коня обскачет».
Борис — правитель опытный, навыкший в душах человеческих читать, как в открытой книге, — взгляды те понял и Василию Щелкалову одобряюще закивал с трона, смягчился глазами. Знал, чем распалить бояр. И опять будто бы вздох прокатился по лавкам.
Дума приговорила — составить указ.
Решив главное, Борис без промедления — пироги печь, так не остужай печь — назначил главному стану ратному быть в Серпухове, правой руке в Алексине, левой в Кашире, передовому полку в Калуге, сторожевому в Коломне.
— И отписать, — сказал веско, уверенным голосом, — воеводам, дабы не было ни ослушных, ни ленивых. Все дети боярские, юные и престарелые, охотно садились бы на коней и без отдыха спешили к сборным местам.
Дума приговаривала — быть по сему.
Василий Иванович Шуйский, хоронясь за чрево сидящего рядом боярина, своротив шею на сторону, буркнул: