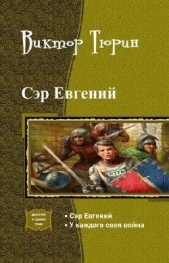Распутин
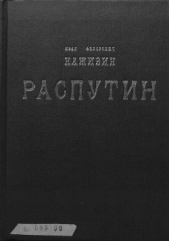
Распутин читать книгу онлайн
Впервые в России печатается роман русского писателя-эмигранта Ивана Федоровича Наживина (1874–1940), который после публикации в Берлине в 1923 году и перевода на английский, немецкий и чешский языки был необычайно популярен в Европе и Америке и заслужил высокую оценку таких известных писателей, как Томас Манн и Сельма Лагерлеф.
Роман об одной из самых загадочных личностей начала XX в. — Григории Распутине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Да так, в горы…
— Ну, это дело теперь не выйдет… Через полчаса погода переменится, и в горах вы пропадете… Всего лучше переждать бурю вот в хижине…
«Ведь вот не один же я в мире… — подумал Евгений Иванович. — И его вот мысль бродит в темноте, видимо, где-то совсем близко от моей…»
Старик, скрябая ногами, пошел за дом, и снова застучал там его топор.
Евгений Иванович, сняв рюкзак, с удовольствием отдыхал: он поднимался уже шесть часов. Белые реки тумана вздулись. Горы грозно посинели. И отделились от молочных рек белые облака и, как гонцы, побежали среди гор вдаль. И пропало солнце, и мир потускнел, и нахмурился, и похолодал… И резко ударил холодный ветер…
— Ну, а теперь пойдем в хижину… — сказал старик, появляясь. — Сейчас заревет…
И действительно, не успели они войти в домик с дощатыми нарами и грубым столом, как за стенами его взвыла буря, повалил густой снег, и в хижине сразу угрюмо потемнело. Старик развел на очаге огонек, оба закусили, и так как разговаривать было трудно — Евгений Иванович с трудом понимал баварское наречие, — да и не о чем, то оба на грубых холщовых матрасах, которые служат летом туристам для ночевки, укрывшись, легли подремать.
Но как ни устал Евгений Иванович, сон не шел к нему.
«Все равно: и несокрушимая власть Темных, и невозможность учесть даже приблизительно последствия деяний наших, и вечная сила слепого Случая, — думал он, — но все же жить как-то надо. И не следует бояться изменчивых текучих форм жизни. Был и исчез Вавилон, и Египет, и Греция, умерла Римская империя, отшумело Средневековье, отцвело Возрождение, и ничего страшного не произошло: жизнь продолжается. В Древнем Риме был удивительно поэтический обычай ver sacrum: [122] в случае какого-нибудь тяжелого общественного бедствия народ давал торжественное обещание посвятить всех родившихся в этом году детей богам. И вот как только дети эти достигали двадцатилетнего возраста, ранней весной первого марта все они, подняв знамена с изображением дятла и волка, прощались навсегда с остающимися и уходили куда глаза глядят. Веселое солнце священной весны, первые цветы на чуть зазеленевших полянах, манящие, как и теперь, дали, и по солнечным дорогам идет эта молодая толпа в неведомую даль, идет месяц, идет три, идет до тех пор, пока не придет в такое место, которое ей понравится для постоянного поселения. И песни, и опасности, и любовь в сиянии звезд, и смерть среди полей, и горы, и реки, и глушь, и восторг, и воля. Так пришли из древней Бактрии, из Гималаев, сами римляне, так вышли оттуда родоначальники всех других европейских народов, так потом стали отстраиваться в сиянии ver sacrum молодые рои от самого Рима. Мне жаль, что прелестный обычай этот забыт народами: места на земле, куда могли бы направиться наши sacrani, [123] еще очень много. Но не должна ли быть и вся жизнь человечества такой вечной ver sacrum, таким радостным походом в неизвестное? И если люди, в бешенстве разрушив старое, ошиблись в выборе пути к новому, то из этого никак не следует, что надо возвратиться назад, к заведомо плохому, но надо, оставив ложные пути, в поте сердца искать путь правильный: semper idem [124] — смерть. Жизнь в semper ad astras! [125] Бедный Станкевич в его наивной легенде «О чем говорят звезды» был в тысячу раз более прав, чем все миллионы самоуверенных охранителей…
Semper ad astras!»
В волнении он даже приподнялся на своем сеннике. Старик, протрудившись весь день, мирно спал. За стенами бешено металась буря. И Евгений Иванович опять лег и, глядя широко открытыми глазами в сумрак, который сгущался все более и более, продолжал думать:
«Жить как-то надо… Как же жить? Как те Светлые, что, стремясь к звездам, осветили и согрели нашу жизнь. Не неизвестному солдату, который где-то когда-то как-то осквернил Божью землю кровью человеческой, должны мы ставить памятники, но неизвестному предку, впервые открывшему лен, неизвестному поэту, впервые подметившему неподвижность Полярной Звезды, неизвестному мыслителю, восторженно прошептавшему первую молитву. Всех их били, бьют и будут бить святейшие синоды, папы, чекисты, артиллеристы, кавалеристы, сотни черные, и сотни красные, и сотни белые, и сотни всякие, а они все стоят бессменно на страже своего сокровища, у чаши святого Грааля, у святых огней Человечности. Пусть даже нет у них ни малейших шансов на победу, но все же, все же правы только они, только они святы, только в них человеческая гордая и прекрасная жизнь! И что же в них самое главное, самое существенное? Самое существенное в них это: будь самому себе верен до конца и ничего не бойся: она все таки вертится! Рви цепи и поднимайся к звездам! Будь сам собой!.. Кто мне сказал, что я какой-то там окшинский домовладелец и редактор-издатель какой-то там газеты? Как мог я поверить такой лжи? Я в душе своей охотник-дикарь, я пастух, зачарованный звездами, я кочевник, влюбленный в землю, я жрец великого и таинственного Бога Неведомого, — ибо Бог ведомый, Бог названный уже не Бог!.. И я должен быть в жизни тем, чем я чувствую себя в душе…»
…Мягкая, теплая волна вдруг бархатно накрыла его, запутала своими ласкающими тканями и понесла, понесла, баюкая, в даль блаженную…
Он проснулся от ощущения необычайной тишины, В хижине никого уже не было. В маленькие, занесенные снегом оконца ласково светил розовый рассвет, и, точно подчеркивая торжественную тишину гор, за стеной радостно и нежно уже звенела капель: люли-люли-лель-лель… люли-лель… люли-лель…
Он бодро встал с своего сенничка, распахнул дверь и — замер на пороге: все вокруг было бело, и над белой землей этой, как горние алтари, сияли в тихом чистом небе алые вершины гор. Сразу потеплело, и нежно звенели жемчужные капели, и торжественными голосами лавин перекликались рдеющие в небе великаны. Земля казалась белоснежным храмом Богу Неведомому, и он, одинокий, был в этом бездонно-великом храме в эту минуту светлым жрецом… И в ожившей душе его пели сладкие, горячие, крылатые молитвы Богу Неведомому, и прекрасному храму его, и всем жрецам его, которые, не проливая и капли крови, — разве только свою! — двигали жизнь вперед, расчищали пути человечества от диких зарослей суеверий, давали братьям своим хлеб телесный и духовный, творили красоту и радость…
И радостный, восторженный, по чистой пелене снега, как был, без шапки, он прошел к краю скалы, на которой стояла хижина. И на краю голубой бездны под старыми дубами, на которых сохранилась еще желтая листва, — дуб долго держит старые листья — он остановился и смотрел вниз на густо-изумрудное теперь озеро, и восторженно дивился душой радостно-солнечным просторам земли, и все его существо было одним певучим, торжественным гимном… Он поднял глаза на горы. На самой вершине могучей расколотой пирамиды Вацмана, у Hocheck, [126] точно зацепившись за что, застыло небольшое, все золотое облачко: казалось, что кто-то молодой и дерзкий развернул там, среди торжественной переклички грозных лавин, золотое знамя, радостно возвещая миру спасение… Это было так прекрасно, так радостно, что Евгений Иванович невольным жестом ответно протянул туда руки и про себя воскликнул: «Да, да, к звездам! Под золотое знамя, ввысь! И если придут к твоему алтарю другие — радуйся, не придут — не печалься нисколько и никого не зови! Радость, радость!..»
Из голубых ущелий вырвался вдруг утренний ветер, пронесся по белым, тихим пастбищам и шевельнул старые дубы вокруг. И на Евгения Ивановича тихо посыпались листья, точно золотые кораблики, неслись они в солнечном воздухе, колебались, кружились и, тихо скрываясь в голубых безднах, нежно напоминали о конце всех концов. И вдруг вспомнилось осеннее утро в золотой Засеке, и вся та старая, безвозвратно ушедшая куда-то жизнь, и седая женщина в черном с трясущейся головой… И точно невидимая рука какая-то тихонько спустила радостно вибрировавшие струны его души, и печально зазвенели в памяти печальные слова поэта-тамила, жившего тысячу лет тому назад, слова, которые он поставил эпиграфом к своей тайной тетради, к Книге Живота своего:


![Сэр Евгений [СИ]](/uploads/posts/books/35451/35451.jpg)