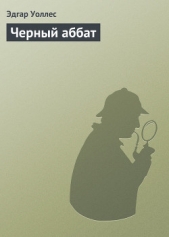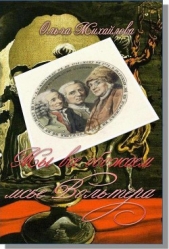Ремесло сатаны

Ремесло сатаны читать книгу онлайн
Николай Николаевич Брешко-Брешковский (1874-1943) - автор популярнейших остросюжетных романов. "Ремесло сатаны" - одно из самых блистательных произведений в этом жанре. Шпионаж, похищения, светские интриги в изобилии присутствуют на его страницах. Тайные пружины и механизмы запускаются деятелями, стоящими за кулисами большой политики. Итог - события в Сараево в 1914 году и мировая война.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Из этих.
— Прекрасно! Ваш, так сказать, ценз технический?
— Мой ценз? Я здесь немного учился, потом во Франции, прошел курс политехникума в Нанси, потом практически изучал на заводах артиллерийское дело, морское, нефтяные двигатели. Меня всегда тянуло к судостроительству. Собственная яхта моя сконструирована была не без моего участия.
— Я слышал о вашей собственной яхте. «Аврора»?
— Да! Вы почему знаете?
— Журналист должен все знать, даже то, чего не существует в природе, — усмехнулся бледным, «голым», костистым лицом Евгений Эрастович.
— Вы курите? Пожалуйста.
Корещенко прошел мимо станка, продолжавшего двигаться всеми своими стержнями, блоками, ремнями, и со стола, заваленного чертежами, фотографиями, щипчиками, напильниками, взял деревянную коробку с папиросами.
Шацкий, закурив, продолжал:
— А что вы скажете о ваших «истребителях»? Я слышал, они грозят переворотом в военно-морском деле?
— Уже и переворотом, — улыбнулся какой-то детской совестящейся улыбкой инженер. — Нет, я Америк открывать не собираюсь, но есть основание думать, что мои истребители, буде окажется случай, лицом в грязь не ударят.
— Какой главный принцип? Чем они могут побить другие, уже имеющиеся, ну, скажем, германские истребители?
— Чем? Быстроходность, во-первых. Она будет равняться сорока узлам в час.
— Семьдесят верст, ого, да это не кот наплакал! Такого, можно сказать, рекорда никто не побил и не побьет. Затем?
— Затем мой истребитель на ходу будет чувствовать, «видеть» неприятельскую субмарину под водою.
— Ого, да это совсем, черт побери, занятно! Каким же образом? Особенный прибор какой-нибудь?
— Это… это, — запнулся Корещенко, — я не вправе сказать. Это уже область…
— Секретная, — подхватил Шацкий, — понимаю! Еще?
— Еще… каждый из моих истребителей снабжен четырьмя орудиями небольшого калибра, но такой мощной силы, что они могут выдержать бой с крейсером.
— Значит, так: ваши орудия отличаются дальнобойностью, и, кроме того, быстрота вашего истребителя делает его неуязвимым? Он может безнаказанно уйти за черту досягаемости от самого быстроходного военного корабля?
— Может…
— Вот это я понимаю! Это завоевание — торжество техники. У вас все это разработано в мельчайших деталях, до последнего винтика?
— До последнего винтика, — согласился Корещенко, бросив невольный взгляд по направлению железного шкафа в виде большой несгораемой кассы.
Шацкий перехватил этот взгляд, подумав:
«Ага, вот где зарыта собака!»
Сделал последнюю попытку, сам не веря в ее успех:
— Вот что, Владимир Васильевич, может быть, позволите этак бегло взглянуть. Может быть, у вас есть общий рисунок? Хотелось бы получить некоторое впечатление. Вы можете мне доверить, вы меня видите впервые, но я же не с улицы. На мне мундир, хотя и не русский, но почти что русский. Россия и Болгария — родные сестры, славянские сестры — старшая и младшая. Я, как патриот, из весьма понятного горделивого, чувства жажду написать…
— Я вас убедительно прошу ничего не писать! Не надо, уверяю вас, не надо! Я не ищу рекламы. Я хочу работать незаметно и тихо, что же касается чертежей, я очень перед вами извиняюсь, Евгений…
— Эрастович.
— Евгений Эрастович, но это во многих отношениях неудобно…
— Ну, да, разумеется, я вас понимаю. Я только так, из любопытства. Скажите, Владимир Васильевич, вы один здесь работаете или вам кто-нибудь помогает?
— У меня есть помощник, очень талантливый механик, работал несколько лет в Англии. Он сейчас уехал в город за кое-каким материалом.
— Понимаю, самородок! Наверное, какая-нибудь чистая русская фамилия?
— Вы угадали, его зовут Епифановым, хороший малый, своего дела фанатик. Он у меня всего третий месяц.
— А раньше где был?
— Он служил здесь по соседству. У Юнгшиллера.
— А, этот «король готовых платьев»! Что ж, у него там было много работы, — автомобили, моторные лодки. Почему он ушел?
— Условия были тяжелые. Он получал семьдевят пять рублей в месяц на своих харчах. У него где-то семья в глубине России. Пятьдесят рублей туда высылал, самому двадцать пять оставалось. Он питался печеным картофелем… А в нескольких шагах от мастерской, где он работал, находится собачья будка. И вот лакеи Юнгшиллера бросали цепной собаке жареных рябчиков с господского стола, а Епифанов сидел на картошке. Ему стало обидно, и он ушел ко мне.
— Сколько он у вас получает?
— Двести пятьдесят… пока.
— Вот видите! Вы благородный человек, Владимир Васильевич. Широкая русская душа… А этот Юнгшиллер немец, перец, колбаса! Ну, до свидания, очень рад познакомиться. Как-нибудь наведаюсь еще, если позволите. Желаю успеха!
— Милости просим, а что не показал вам чертежей — не взыщите, не могу, при всем желании.
— Последний вопрос: а на каком, же заводе думаете вы конструировать ваши истребители?
— И это я не вправе сказать…
18. ВЕЛИЧИЕ — ГДЕ ТЫ?
Патент скреплен королевской печатью. Лист пергаментной бумаги вступил в свою странную магическую силу, над которой можно иронизировать, но которой нельзя не признать. Король Кипрский торжественно протянул новому кавалеру ордена «Блаженной Юстинианы» патент, еще торжественнее обнял и трижды поцеловал.
Дмитрий Владимирович говорил Забугиной:
— Знаете, Вера Клавдиевна, мне еще никогда не приходилось наблюдать такое удивительное сопоставление чего-то бесконечно трогательного, умиляющего вместе с элементом, увы, смешного и жалкого. Трогательно все, что наслаивалось, созидалось целыми веками, что хранит в себе прочную традицию. Бесконечно трогательно! В самом деле, без малого тысячу лет награждали Лузиньяны орденами, сначала своих подданных, а затем чужих, потому что своих не стало. Но благодаря пышным инсценировкам опереточный колорит всех этих церемоний стушевывался на фоне замков, дворцов и даже первоклассных отелей с мраморными колоннами, позолотой, гигантскими зеркалами и пальмами.
Но теперь, теперь, это был шарж и, право, хотелось плакать. Нищий король в потертом немодном сюртуке, задолжавший за комнату, питающийся молоком и яичницей, да и то не без вашего благосклонного участия, жалует меня орденом…
Ведь сущность, дух — те же, что и были. Разница лишь в форме. И «власть» его та же самая, которой он обладал, скажем, пятьдесят лет назад. Она ничуть с тех пор не уменьшилась и не увеличилась. Но тогда был блеск, были декоративные эффекты, а теперь, теперь — фарс в меблированных комнатах на Вознесенском… Бедный король, бедный «бывший» король, и разве это не символ: дал орден бывшему гвардейскому офицеру, «бывшему человеку», так же ведь? Как вам нравится это определение, Вера Клавдиевна?
— Совсем не нравится! — С упреком в ясных серо-голубых глазах своих смотрела на него девушка. — Вы не будете называть себя бывшим человеком? Никогда? Мне… мне это больно слышать… К чему бравада? Вы же сами не верите в это! Всем своим существом не верите! Но ради красного словца, ради пикантной параллели — бывший король и бывший человек… Вы меня словно ударили этим! Вы, который на пути, чтоб заново пересоздать свою жизнь… Вы уже это сделали и, самое главное, сумели внушить уважение тем, кто думал, что будет смотреть на вас сверху вниз.
— Ну, полно, полно, дорогая Вера Клавдиевна, будет вам отчитывать меня. Виноват, но, право, заслуживаю снисхождения. Какая вы… как вы умеете хорошо чувствовать, — молвил Загорский тепло и сердечно, и так это было непривычно для него, всегда с ироническим холодком, замкнутого, надменного.
Смягчилось его лицо, точеное, породистое лицо лорда, и разгладились обыкновенно сухие, жесткие складки возле углов рта. И только сейчас убедилась Вера Клавдиевна, что его глаза, ни цвета, ни выражения которых нельзя было определить в точности, умеют смотреть с какой-то обволакивающей нежной добротой.
Но это лишь миг. Дрогнуло и погасло. И опять спокойная, холодная маска. И уже по-другому звучал грассирующий голос. Как всегда, определенно и твердо, с уверенностью избалованного человека, знающего, что его слушают, что он умеет заставить себя слушать…