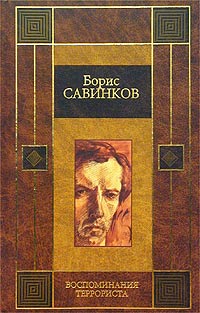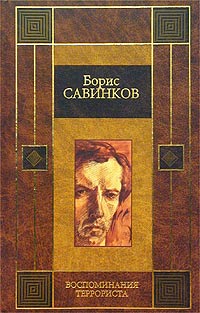Конь бледный. Конь вороной
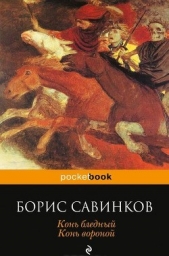
Конь бледный. Конь вороной читать книгу онлайн
Борис Савинков - политический деятель, один из лидеров партии эсеров, участник Белого движения, известный террорист, талантливый публицист, писатель. Организатор ряда сенсационных политических убийств, в том числе великого князя Сергея Александровича и министра внутренних дел В.К.Плеве. После революции 1917 года активно выступал на антибольшевистской позиции, был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте. С началом Гражданской войны поддержал создателей Добровольческой армии, пытался организовать покушения на Ленина и Троцкого.
После знакомства с религиозными взглядами и точкой зрения на революционное насилие Д. Мережковского создает знаменитые повести КОНЬ БЛЕДНЫЙ, КОНЬ ВОРОНОЙ, основанных на реальных событиях: убийство Каляевым (под руководством Савинкова) великого князя Сергея Александровича. События художественно осмыслены автором с сильной апокалиптической окраской, выраженной в самом названии, проводится психологический анализ обобщенного, рефлексирующего типа террориста, близкого к "сильному человеку" Ницше. Стилистика книги сформировалась под влиянием модернизма.
Содержание:
Конь бледный
Конь вороной
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
24 ноября.
Разве это война? Красные сдаются почти без боя. Вчера мы взяли батарею — четыре орудия, сегодня два пехотных полка. Федя хвалится: «Так и ставку ихнюю голыми руками возьмем». Егоров останавливает его: «Не мели. Воля божья… О себе пекись. Как бы не забрали тебя…» Но я спокоен: Федю не заберут.
Холодно. Свищет ветер. Воет и разыгрывается метель. Вреде выстроил пленных в поле. Он командует:
— Смирно!
Восемьсот, одетых в военную форму, крестьян впивается мне в лицо. У всех один и тот же, напряженный и недоверчивый взгляд. Они озябли, держат руки по швам и готовятся к смерти. Федя спрашивает:
— Прикажете тачанки подать?..
Тачанки… Нет, я не расстрелял никого. Я предложил желающим вернуться в Бобруйск, желающим записаться к нам. И я сказал, что каждый волен идти домой.
Они не поняли. Кружилась снежная пыль, таяла и забивалась за воротник. Я ушел. Они все еще ждали. Ждали чего? Тачанок?..
25 ноября.
К пленным я послал Егорова и «мужичонков» из Бухчи. Я не знаю, о чем они говорили. Вероятно, опять о панах, о земле, о подводах, о генералах. Но к вечеру у нас составился новый добровольческий полк — 1-й Партизанский, пехотный. И теперь во мне живет звериное чувство: я хочу драться. Драться, даже если нельзя победить.
26 ноября.
Я люблю Ольгу. Любит ли Ольга меня? Я впервые задаю себе вопрос. Там, в Москве, я знал, что она не может меня не любить. Какая женщина устоит против любви? Какая женщина не истомится и не взволнуется страстью? Чье сердце выдержит самоубийственный поединок?.. Но ведь теперь между нами даже не бездна, а колодец ее. Колодец бедствий, тревог, несчастий и поражений. Не тюрьма и не Лубянка страшны. Я сожгу тюрьму и взорву Лубянку… Страшна неразделенная жизнь.
27 ноября.
Я написал на клочке бумаги: «Начальнику Бобруйского гарнизона. Приказываю вам сдать немедленно город. В случае неисполнения сего приказания, я вас повешу. Деревня Микашевичи. Подпись». Эту записку я передаю перебежчику. Молодой солдат в шлеме улыбается и прячет ее за рукав.
— Ничего больше, товарищ?
— Ничего.
— Счастливо оставаться, товарищ.
28 ноября.
Для него я «товарищ», а не «господин полковник» и уж, конечно, не «его благородие». Вреде не признает этих «коммунистических новшеств». Он не может понять, что он давно не его величества лейб-гусар, а такой же доброволец, как Федя. «Товарищ» звучит для него оскорблением. Мне все равно: лишь бы сдался Бобруйск, лишь бы сделать еще один, пусть обманчивый, шаг к Москве… Мне приказано ждать. Тем хуже. Завтра я наступаю.
Целый день длился бой. Грохотали орудия, разрывались, взметая землю, гранаты, звенела и таяла в голубых небесах шрапнель. Я смотрел в бинокль, как на окрестных холмах перебегали за березами люди и падали под нашим огнем. Не люди, а игрушечные солдаты. Игрушечная шашка, как спичка; игрушечная винтовка, как карандаш; игрушечный разрыв, как дым папиросы. А когда мы взяли холмы, на истоптанной прошлогодней траве валялись шапки, сумки, шинели. Федя поднял одну, офицерскую, подбитую мехом. Она была испачкана кровью. Он счистил ножиком кровь и надел шинель в рукава. Уланы мерзнут и завидуют Феде: «ординарцам всегда везет». Но сегодня везет и им: люди сыты, и у лошадей есть овес.
29 ноября.
Мы вошли в Бобруйск на вечерней заре. Садится круглое, багровое солнце. На гулких улицах ни души. Чернеют заколоченные дома, и четко, иглами, торчат фабричные трубы. На главной площади, на канате, два источенных дождями портрета: Ленин и Троцкий. Егоров саблей разрубает канат.
Мы победили. Но во мне нет радости, знакомого опьянения: русские победили русских. На стене белеется прокламация. Я срываю ее. В ней говорится о нас — «разбойниках» и «бандитах». И я спрашиваю себя: брат на брата или клоп на клопа?
30 ноября.
Взводный Жеребцов делает мне доклад:
— Так что взяли нас, господин полковник, под Микашевичами, в разъезде, — Кучеряева, Карягина и меня. Привезли в Бобруйск потащили в Че-ку. В Че-ке не комиссар, а толстая баба, содком. Во френче и в галифах. В руке у нее наган. Взглянула на Кучеряева, говорит: «Ползи на коленях». Кучеряев пополз. Она трах из нагана.
Потом Карягину: «А теперь ползи ты». Карягин туда-сюда, а в дверях чекисты стоят, смеются. Нечего делать. Пополз. Она снова трах. Уволокли чекисты обоих, а она ко мне повернулась и ласково так говорит: «Как тебя звать, товарищ?» — «Василий». — «Ну что-ж, покури, товарищ Василий»… и папиросу дает. Взял я папиросу, курю. А она меня подозвала к себе и руки на плечи положила: «Ты ведь все мне расскажешь, товарищ Василий?.. Сколько у вас коней, орудий, винтовок»… Я ей было пушку залить хотел, а она как закричит на меня: «Врешь! Правду говори, сукин сын!»… — «Не могу знать», — говорю. — «А, так ты так?.. Всыпать ему пятьдесят!..» Всыпали. — «Ну?..» Я молчу. Она встала со стула и раз меня хлыстом по щеке. Искровенила все лицо. «Увести его. Всыпать еще полсотни, а потом на сосиски…» Увели меня в паку, есть и пить не дают, измываются только: «Ты, — говорят, — Иуда, продался господам»… А тут вы подошли и, слава богу, освободили… Она, с комиссаром, сказывают, до сих пор укрывается здесь. Тетерины их фамилия.
1 декабря.
Егоров отыскал комиссара, но жены его не нашел. Тетерин прятался в еврейской семье, под периной. В наказанье Егоров выпустил из перины пух, разбил окна и изломал грошовую мебель — «побаловался немного». Тетерина повесили утром. Вешал, конечно, Федя. Он нарочно долго возился с петлей, мылил веревку, уходил и не торопился возвращаться обратно. Теперь Федя выпил водки и пообедал. Он в сенях бренчит на гитаре:
2 декабря.
Я сказал: неразделенная жизнь… Я иду своею дорогой, Ольга — своим, неведомым мне, путем. Над нами разное небо, под нами не одна и та же земля. Она дышит Москвой, я — моей любовью к Москве. Она живет настоящим, я — будущим, если не прошлым. Может быть, я стал ей чужим, потому что далеким. Может быть, на ее суровые дни уже легла иная, темная тень… Но я верю: «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее, ибо любовь крепка, как смерть».
3 декабря.
Из штаба армии приехал полковник Мейер. Блестят серебряные погоны, улыбается выхоленное лицо. Он курит сигару и говорит о штабных новостях. Я только и слышу: «Его превосходительство… Его высокопревосходительство… Господин министр… Барон… Камергер…» И потом: «Блок… Соглашение… Левые… Правые… Париж… Япония… Америка…» Он доволен, что в «курсе событий» и что находится близко к «центру». Докурив, он озабоченно наклоняется через стол:
— Как же так, дорогой?.. Вы ведь, кажется, без приказа перешли в наступление?
— Да, без приказа.
— Ай, ай, ай… Разве можно? Вы знаете, командарм недоволен… Я-то понимаю, все понимаю и высоко ценю, но, однако, по диспозиции…
— Какой диспозиции?
— Как какой?.. — он надевает пенсне и с недоумением разглядывает меня: — По диспозиции вы должны были ждать в Микашевичах.
— Ждать кого?
— Его превосходительство командарма.
Мне надоело его пенсне, надоел его приторный голос. Мне надоели штабы, министры и генералы. Но я сдерживаю себя. Могу ли я подать пример ослушания? И я, как ученик, говорю:
— Виноват, господин полковник.
4 декабря.
Вреде обиделся за меня. Он долго ходит из угла в угол. Потом садится. Потом закуривает и, наконец, говорит: