Камень и боль
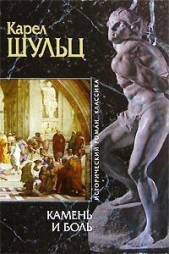
Камень и боль читать книгу онлайн
Роман «Камень и боль» написан чешским писателем Карелом Шульцем (1899—1943) и посвящен жизни великого итальянского художника эпохи Возрождения Микеланджело Буонаротти, раннему периоду его творчества, творческому становлению художника.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В голосе Граначчи горечь и равнодушие.
– Какая же это сила?
Тут Микеланджело поднял лицо и сказал просто:
– Смирение…
Франческо копнул носком туфли землю, отбросил ногой большой кусок грязи. И насмешливо прибавил:
– …говорит наш добрый фра Тимотео…
– У меня тоже… – продолжал нерешительно Микеланджело, – есть своя тайна. И такие же сомнения, как у тебя. А у кого их нет? Говорят, Дамассо Джинни из-за них умер… И у меня тоже есть. Может, даже посильней твоих. И у меня есть кто-то, кто меня ведет. И знаешь – тоже не Лаура, не Беатриче, но… она. Тоже она. Твоя покойница хоть жила когда-то. А моя никогда не жила, моя живет только возле меня. Я создал ее в воображении. И не знаю, как ее зовут. У нее нет имени. И я тоже никогда, наверно, не узнаю другой женщины. Но ясно вижу ее перед собой. Я вывел ее в своем воображении из Дантовых стихов, которые как-то раз прочел, – ты их знаешь:
И я обрел смирение в страданье,
Когда узрел те кроткие черты.
– Это из "Вита Нова", – выдохнул Граначчи. – Чудные стихи, я их знаю…
– Да, чудные. И она у меня создана из них. У нее есть облик, есть дыханье, есть жизнь, голос, она идет со мной, склонив голову. Так покорен стал я в своей боли, а она, она, прекрасная, тихая, молчаливая… покорная в своей улыбке… Да, – говорил я себе прежде, – живой камень! Чем ты все, что у тебя болит, что в тебе разгорелось, что терзает тебя невыносимой мукой, чем ты все это преодолеешь? Так покорен стал я в своей боли…
– Молчи! – вдруг перебил его Граначчи и сердито оглянулся. – Надо ж было подлому соглядатаю помешать нам как раз в эту минуту! Бежать уже поздно! Но не забудь, мы договорим после!
Вниз по косогору, по тропинке меж камней и кустарников к ним спускался сухопарый, тощий юноша в черном, лет девятнадцати, махая им длинными руками.
– Здесь вам будет плохо видно! – заревел он вместо приветствия, очутившись рядом с ними. – Вам нужно поближе к римской дороге. Идемте! Я тоже туда спешу!
– Что ты хочешь видеть, Никколо? – с досадой спросил Граначчи, не скрывая раздражения.
Но юноша, видимо, не замечал этого.
– Вы не знаете? – с изумлением спросил он. – Так почему же вы здесь? Что вы тут делаете?
– Ты старше нас, – отрезал Граначчи, – и должен бы знать, что не на все вопросы отвечают. А про тебя еще говорят, что ты хитрая голова, Никколо Макиавелли!
Юноша засмеялся.
– Что ж, можете не отвечать!.. Что это у тебя так куртка раздулась, Микеланджело? Она у тебя набита рисунками маэстро Гирландайо, которые принес тебе потихоньку Граначчи, чтобы дома не увидели?..
– Ты соглядатай, Никколо, – с возмущением сказал Микеланджело, – и соглядатаем останешься. Почем ты знаешь?
– Я знаю все, что делается во Флоренции! – горделиво ответил юноша. Мне всегда хотелось знать все, что делается кругом…
Потом миролюбиво продолжал, похлопывая их по плечу:
– Все по-хорошему, ребятки! У меня каждая тайна – под семью замками, и я не имею дурных намерений. И коли не хотите идти смотреть, я сейчас вас оставлю, пойду один: такое увидишь только раз…
– Но что же это, Макиавелли? Объясни нам!
– Прекрасная Маддалена, – промолвил важно и хвастливо Макиавелли, прекрасная Маддалена Медичи, дочь правителя Лоренцо, проедет сейчас по этой дороге с блестящей свитой – в Рим, чтобы обвенчаться там с папским сыном.
Мальчики молчали, а Никколо Макиавелли охотно продолжал сообщения:
– Вы, ребятки, еще не понимаете, что это значит! Это политический переворот, последствия которого рисуются пока в отдалении… Этой дорогой проехал однажды ночью кардинал Риарио с папскими послами, которым Сикст поручил убить Медичи. А теперь по ней поедет к папскому двору одетая в парчу невеста из семейства Медичи. Это великое дело! Политика Лоренцо великолепна, и мы все ясней видим, что было бы с Италией, с Флоренцией и с нами, со мной и с вами, ребятки, если бы Сикстов замысел удался и Медичи были бы убиты. Помню, как сейчас, стою я в церкви Санта-Мария-дель-Фьоре, прижатый к стене, полураздавленный, а потом и насмерть перепуганный, когда это во время Евангелия началось… Мне было девять лет… А теперь под развевающимися знаменами поедет невеста из рода Медичи, и кардиналы выйдут все вместе к воротам встречать ее… Вот каков Лоренцо Маньифико! И я знаю: пройдет немного времени – папой станет кто-нибудь из Медичи. Но Лоренцо договаривается не только о кардинальской шапке для своего девятилетнего Джованни! Теперь нужно устроить еще одно: чтобы никто из делла Ровере, больше никогда никто из Сикстова рода не оказался на папском престоле, и вообще – чтобы делла Ровере больше никогда не забирали силу…
И Никколо стал с увлечением, обстоятельно и подробно перечислять живых делла Ровере, их звания, связи, возможности.
– Меня все это страшно занимает и интересует, – закончил он, видя удивленные взгляды обоих мальчиков. – Я больше ни о чем не думаю и мог бы целыми часами говорить вам об этом. Друг нашей семьи, мессер Марчелло Адриани, обещал взять меня на службу республики, – говорит, у меня острый глаз в вопросах политики и большой интерес к ним, – ну, может, это не только интерес, может, и кое-что побольше. Знаете, я иногда кажусь себе врачом, который не в силах не наблюдать больного, хоть ему от этого – никакой выгоды, а просто так, ради самого дела.
– Кто же этот больной, Никколо?
Макиавелли нерешительно оглянулся, потом промолвил:
– Италия. Все мы это чувствуем, это в самом воздухе, которым мы дышим, у некоторых от этого сжимается сердце, как перед бурей, у всех шалят нервы, кое-кто уже скорчился, словно ожидая страшного удара… Разве вам такие вещи безразличны?
– Мы художники, – гордо ответил Граначчи.
Макиавелли, пожав плечами, возразил:
– Политика – тоже искусство, и великое искусство. Прошлым векам это было неизвестно, но мы знаем, – поглядите вокруг: нынче политика создается так, как создаются произведения искусства. В конце концов, в наши дни, когда все, даже самая жизнь, стало искусством, почему бы и такому могучему творческому делу, как управление судьбами городов и государств, не быть искусством? Это искусство, великое искусство. Ах, ты смеешься, Граначчи, надменный Граначчи, думаешь, наверно, что я для такого грязного дела, как политика, употребляю слишком высокие слова! А разве ты всегда работаешь с чистым материалом? Разве для того, чтобы некоторые краски получались лучше, тебе не приходится смешивать их с сажей?
– Прощай, Никколо!
– Прощайте, ребята! Но вы пропустите зрелище, которого больше никогда в жизни не увидите. Речь идет не просто о свадебном поезде. Италия больна, и Лоренцо лечит ее свадьбами, тогда как другие – войной. Вот уже отворяют ворота…
И Никколо зашагал широкими шагами, высоко поднимая свои худые аистиные ноги, – туда, откуда лучше видно. Там он сел и закрыл свое узкое лицо руками. Был ноябрь. Флоренция сверкала на заднем плане, словно выгравированная на меди. Ближе – дубы, ели, кипарисы, за ними какие-то усадьбы, окруженные низкими стенами из больших камней. Тропинки, светящиеся бронзовым светом, словно вычерченные полетом голубок. Макиавелли сидел и смотрел. Отчего оба мальчика не заинтересовались? Художники! А чем были бы они сегодня без Лоренцо Маньифико? И он – художник, и его создание будет жить, когда произведения многих живописцев и ваятелей окажутся мертвыми. Однако… я это чую, это грызет меня внутри, грызет медленно и неумолимо… да, быть может, он не тот человек, который нужен Италии… Италия! Моя Италия! Италия, которой нужен теперь кулак, а не философ… Нет, Лоренцо Маньифико не понимает Италию. А я, я понимаю. Но у него власть, у него все, а у меня – ничего, я – ничто…
Как эти мальчики пока – ничто. Они говорили о женщинах, я хорошо слышал, подходя к ним. Они художники, им нужны женщины. А что из них получится потом? Две жалкие, придавленные человеческие судьбы – как тысячи других. Грустно смотреть вокруг на судьбы людей и всюду видеть историю их упадка… Да, никто не хочет идти по пути величия, ничтожные человеческие судьбы, семейные заговоры, перевороты в дворцовых прихожих, – никто больше не хочет идти дорогой Августа! Ни у кого больше нет смелости срыть с Италии слой грязи, тяжкий слой глины, навалившийся на какую-нибудь прекрасную статую, которая хочет быть открыта, чтобы вновь засиять на солнце. Империя!


























