Голгофа
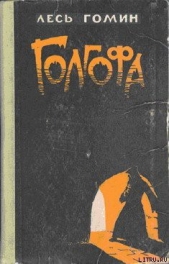
Голгофа читать книгу онлайн
Роман написан на основе достоверных фактов, взятых из жизни молдавских монастырей в период между революцией 1905 года и Великой Октябрьской социалистической революцией. Центральной фигурой романа является пройдоха и жулик Иван Левизор (в монашестве иеромонах Иннокен тий), уроженец с. Косоуцы ныне Сорокского района Молдавской ССР.
Автор показывает чудовищные преступления, совершенные этим проходимцем с позволения и при участии высших духовных и светских властей, наживавшихся на обмане крестьянской бедноты.
Написанная четверть века тому назад, книга представляет большой интерес и в наши дни, так как она зримо, в художественной форме разоблачает «святость» творимых иннокентьевцами дел.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Отец Амвросий, кажется, я засвидетельствовал вам свое уважение, и оно больше не требует доказательств. Вы и сами не станете этого отрицать, уважаемый отец. Однако… нужно меру знать. Это же черт знает что, а не святость. Вы только посмотрите: за какие-нибудь год-два ваша обитель разрослась в целое местечко. Народ шляется, как на ярмарке, всегда полно лошадей, волов, телег и всякой нечисти, так что и пройти невозможно. Но и это бы еще ничего. Ну, ездят молиться — пусть ездят. Но в капище храм нельзя превращать! Вы простите меня, но у вас не монастырь, а притон! Извините откровенность, ваш святой инок чуть ли не со всей Бессарабией живет, не говоря уже о его персональном гареме, о его свите одалисок, которые иногда выскакивают на улицу почти голые. Здесь уж, отец, моя обязанность общественный порядок поддерживать. Понимаете? А то так, чего доброго, можно дойти и до красного фонаря на воротах вместо иконы святого Феодосия.
Отец Амвросий поморщился.
— Ну, это уж слишком, Станислав Эдуардович, слишком. Вы чересчур суровы в приговоре. Ну, я согласен, что кое-кого нужно утихомирить, но… красный фонарь — это уже личное оскорбление. Слово чести, я не заслуживаю подобного, как хотите.
— Дело не в словах. Или возьмите вы ваш «странноприимный». Да это же самое страшное, что когда-либо случалось видеть человечеству. Я уж не говорю о том беззастенчивом жульничестве, которое позволяет себе этот тип. Но сами методы, формы «лечения» — чего они стоят! От такой бесстыдной, такой преступно-авантюристической карьеры отрекся бы последний головорез с каторги.
— Вы, дорогой мой, склонны преувеличивать. Ничего там страшного нет, в этом странноприимном доме. Дом, как и во всех монастырях дома. Только несколько… оригинальнее, что ли. И все.
— Отче, не в жмурки ли мы играем? Или вы меня шутом считаете? — раздраженно проговорил Станислав Эдуардович, почувствовав иронию в словах викарного.
Вскочил резко и… даже сам застыдился: получилось несколько невежливо.
— Простите, отче, мое резкое поведение. Но это уже переходит все границы. Вы только посмотрите: сотни темных, забитых людей сбывают последнее, идут к нему. Ну,
я согласен, что нужно жить. Нужно. Но и меру же знай, меру! А то, вы только взгляните: сумасшедшие, сифилитики, чесоточные, эпилептики, калеки, слепые, кривые, косоглазые — все так и прутся к нему. А он гонит весь этот скот голышом в одну купель, поит из одной кружки, кладет спать всех вместе… и, простите, но это неслыханное преступление — ведь он распространяет все эти болезни, передавая сотням здоровых людей сифилис, чесотку да и саму эпилепсию. Ведь массовый психоз — это результат…рез…
— Не трудитесь, знаю. Знаю, что говорят, нашептывают враги церкви: «Там и здоровый с ума сойти может, там и вполне нормальные становятся эпилептиками». Но, милый мой Станислав Эдуардович, позвольте вас заверить, что все это преувеличено. Ну ходят, ну едут, ну ползут. Так что же? Что делать прикажете с высоты своего административного поста? Не пускать?
— Не пускать — поздно…
— Поздно? Да. Поздно, дорогой мой администратор. Этот проклятый мужлан если и авантюрист, то авантюрист высшего сорта, и нам вмешиваться в это дело не следует, пока нас не заставят. Мы тогда как-нибудь вывернемся… потому что мы же сами и допустили. Да, да, и вы, и я, и все мы. Разве не так? На наших же глазах все это начиналось, а мы носили букеты дамам в салоны. Так ведь? Так. А теперь, скажем откровенно, мужик сел нам на голову, а мы и пикнуть не смеем, ибо у него все козыри. Поэтому шумиха здесь не нужна, любезный мой Станислав Эдуардович. Будемте умнее и давайте несколько рассудительнее относиться ко всему. Так лучше для здоровья… Кстати, как оно у вас? Как чувствует себя уважаемая Мария Карловна? Как детишки?
— Ничего, благодарю…
— Не жалеете вы себя, нервничаете, все рвение проявляете. Это хорошо. Но и о себе позаботиться нужно…
Отец Амвросий помолчал и любезно спросил:
— А серьезно, Станислав Эдуардович, почему бы вам не подлечить нервы в Крыму? А? Кстати, у меня там вилла есть, над самым морем. Серьезно. А я этим летом туда не еду, рад был бы услужить вам. Здесь, если случится что, я уж досмотрю… вызову вас, если что…
— А что может произойти?
Отец Амвросий загадочно улыбнулся.
— Все может быть… Комиссия какая или из Синода кто-нибудь… Знаете, над нами ведь тоже есть старшие… Но, заверяю вас, вам беспокоиться не придется. Езжайте, дорогой мой, отдохните, поживите без хлопот. А? И Марии Карловне, и деткам приятное сделаете.
— Я бы не прочь… Вы правы, отдохнуть нужно.
— Вот то-то же, — улыбнулся князь церкви. И нажал на звонок.
— Мавра, принесите нам холодненького винца. От жары изнываю. А вы как? Не откажетесь?
— Охотно, буду рад выпить в компании с вами.
14
Подступиться к Иннокентию невозможно. Не принимает святой отец. Говорят, наложил на себя вериги и молится, вымаливает на убогую Молдавию благость господнюю. Говорят, не ест уже сороковой день и все слезы льет за свой народ, так сильно согрешивший перед богом. Говорят, что даже матери своей отказывает в свидании, и грустит богородица София. Грустная, но милостивая, раздает она слезы его святые, пролитые перед богом во спасение грешников. А он все не выходит. Только самые приближенные могут пройти через все десять комнат, предшествующих его покоям.
Закрыты покои святого. Лишь пресвятым мироносицам дозволено переступать порог, готовить к молитвам его пречистое тело. Да и тем указан вход с другой стороны, из своего помещения, где они спят, уповая после молитв на его благость. А без разрешения только дежурная входит.
Загрустил и сам святой муж. Тоскливо ему: земными грехами душа томится. И тихо, словно четки, перебирает тяжелые косы Соломонии, накручивает их на палец.
— И все ж, Соломония, без тебя как-то скучно мне. Хоть и много вас здесь, а нет тебя — и душа неспокойна.
— Неспокойна? А чего ж это Катинка тебе так часто купель готовит и миром тело умащивает? И Хима — та чаще меня ходит. Разве я не знаю?
— Ты, Соломония, не понимаешь великой заповеди господа, которую я соблюдаю. Ведь усмирять плоть людскую — дело трудное. А каждая невеста Христова — как со мной переспит — принимает дух мой на себя и от грехов избавляется.
— Мэй, Ваня! Расскажи кому другому. Я-то уж твой «дух» знаю. Знаю, чем и как отпускаешь грехи «грешницам». Да разве так святой поступает, как ты? Где еще увидишь среди святых такого лакомку, как ты? И разве у святых в кельях нарисована такая гадость, как у тебя? А к лицу ли святым входить голым в купель перед женщинами и чтобы они его тело миром мазали? В этом, мэй, твоя святость? Ты, Ваня, брось эти штуки, говори со мной, как раньше, когда мы с тобой хорошо жили. Да вспомни, как ходили мы этими ногами, отцом данными, пути-дороги топтали. Как пара голубей, как дети: что один, то и другой. А теперь сидишь, как боров в загородке, и только ждешь ласк бабьих.
— Э-э, вспомнила! Что было — не вернется, — недовольно пробормотал он. Неприятны были ему воспоминания прошлого. — Все уплыло, как с водой. Не вернется больше. Теперь я не тот Иван. Не к лицу мне, Соломония, так просто жить, как жил, потому что народ, верующий в меня, привык уж на роскошь снизу смотреть. Да и чего ради должен я бросать все это здесь и опять искать нищету?
— Мало ты о себе думаешь, мэй! Что будет, если поймаешься?
— Дуреха ты, Соломония. Теперь мне ничего не страшно. Я уж знаю, что делаю…
Рука привычно накручивает черную, как вороново крыло, косу и гладит румяные щеки мироносицы. А глаза светятся довольством.
— Поймаешься! Да ты знаешь, что пламени этого не погасить никому? Пусть не будет меня здесь, но эта толпа уже не отойдет от нашего монастыря. Их только раздразнят этим больше. Глупости ты говоришь, Соломония. Я не боюсь этого, потому что сейчас и сам царь ничего не
сделает. И ты, Соломония, не бойся ничего. Нам с тобой не ходить больше по миру — ты это знай. Хочешь быть со мной — будь, нет — иди куда хочешь. Я не отпущу тебя с пустыми руками, будут у тебя деньги на прожитие. А моя дорога выше стелется. Бог на другое меня предназначил

























