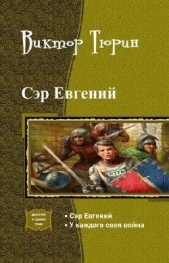Распутин
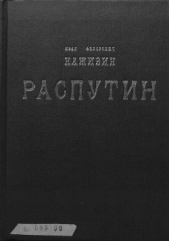
Распутин читать книгу онлайн
Впервые в России печатается роман русского писателя-эмигранта Ивана Федоровича Наживина (1874–1940), который после публикации в Берлине в 1923 году и перевода на английский, немецкий и чешский языки был необычайно популярен в Европе и Америке и заслужил высокую оценку таких известных писателей, как Томас Манн и Сельма Лагерлеф.
Роман об одной из самых загадочных личностей начала XX в. — Григории Распутине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Поедемте и вы… — говорил он Евгению Ивановичу. — Как только доберусь я до дому, вымоюсь как следует, отдохну, так сечас же засяду за книгу о России. Много у меня интересных наблюдений о вашем народе накопилось. И так и назову ее: «Das Russentum [86]». Мы, немцы, знаем вас лучше других иностранцев, но все же, по-моему, недостаточно и совсем плохо понимаем. Вы — загадочный для нас народ. Что такое, например, была вся эта дикая Распутиниада? Что такое это вот самосожжение великого народа? Что такое этот страшный разгул в разрушении своего же собственного дома? Большая и интересная это загадка! Вот и давайте работать над этой книгой вместе… Только весь вопрос теперь в том: как выбраться?
Изредка с тяжелым чувством встречал Евгений Иванович и земляков своих Ваню Гвоздева и Володю Похвистнева. Израненные, грязные, оборванные, вшивые, со страдальческими лицами и сумрачным огнем в глазах, они производили угнетающее впечатление. Это были уже не юноши, а точно совсем уже отжившие люди, для которых впереди не было ничего. Володя, крепко сцепив зубы, упорно молчал, а Ваня горел бешенством и сжимал кулаки. О страшной судьбе Тани Евгений Иванович Володе сказать не решился…
А Красная армия, все напирая, ворвалась уже на тихий Дон, и всевеликое правительство его бежало кто куда. Поезда изнемогали под тяжестью беженских толп. Военные автомобили, подводы, даже броневики беспрерывной вереницей ползли по разбитым дорогам, увозя с Дона раненых, краденые пианино, сомнительных девиц, граммофоны, меха, муку, все, что в последний момент попалось под руку: на черный день — он был несомненен — все пригодится. Тысячные толпы, нагруженные всяким скарбом, — барыни, журналисты, врачи, мужики, священники, гимназистки, рабочие, казаки… — торопливо, наклонясь вперед, месили грязь среди бесконечных обозов. То и дело возникали опасливые слухи о близости большевистских разъездов, о восстаниях в белых частях, и тогда паника и смятение стад человеческих увеличивалась чрезвычайно, и напрягая последние силы, они ускоряли свой бег — неизвестно куда, только подальше от страшного лика революции, который, пугая, мерещился им за мутными, угрюмыми горизонтами… И все больше и больше умирало людей в тоске безысходной по обочинам раскисших дорог…
В смятении невероятном, неописуемом, зверином были очищены белыми Новочеркасск и Ростов. Нестройными, все увеличивающимися толпами они бежали дальше, бросая последние танки, артиллерию, лазареты с тысячами раненых и тифозных, огромные склады, вагоны, броневики, все и всех. И засуетилась тревожно когда-то богатейшая Кубань, и в панике, похожей на кошмар, был очищен Екатеринодар. Теперь все в безумном порыве устремилось в Новороссийск, в этот последний русский город, превратившийся к этому времени в один огромный сумасшедший дом. В домах беженцам места не было уже ни за какие деньги. Место где-нибудь на подоконнике получали только уже счастливейшие, а остальные тысячи и тысячи людей в жестокую стужу — как раз в эти дни агонии Добровольческой армии дул ужасающий зимний норд-ост — ночевали в вагонах, в пустых ларях базара, на скамейках бульвара, под опрокинутыми лодками, прямо на тротуарах, под забором. Спекулянты, генералы, барыни в драгоценных мехах и бриллиантах, евреи, тифозные, попы, губернаторы, думцы, голодные добровольцы, студенты, казаки, сенаторы, социалисты, промышленники, писатели, вшивые и грязные институтки — все это пестрой, охваченной паникой метелью крутилось по загаженному и зараженному городу, лихорадочно спекулировало решительно на всем, только бы как ухватить лишнюю тысячу рублей-колокольчиков, жаркими, бешеными толпами штурмовало иностранные и русские пароходы, дымившие в порту: только бы не остаться, только бы бежать, скорей, скорей, куда глаза глядят!.. И над всем этим зловонным миром трусости, жадности, предательства, подлинного страдания и фальшивых громких слов, истерики и матерщины высилась стальная громада «Iron Duke [87]», английского дредноута, который зорко наблюдал за крушением великой России. А неподалеку от него жутко вставали среди серых зимних волн острые черные мачты затопленных судов… И дымя, один за другим уходили в пустынные морские дали переполненные пароходы…
И каждый отвал парохода делал еще горячее, еще безумнее, еще отвратительнее панику среди оставшихся. Разыгрывались сцены звериные, отталкивающие, которые никогда не изгладятся из памяти видевших их. Здоровые гвардейские жеребцы занимали на пароходах лучшие места, а заморенные дети, дети их же боевых товарищей, загонялись в железные, промерзшие насквозь трюмы, одни глушили дорогие ликеры, а других сводило от голода, жена с зашитыми бриллиантами уезжала, а муж, у которого не хватало какого-то документа, оставался, здоровые бежали, а тысячи раненых, калек, тифозных страшными глазами смотрели на отвал парохода из окон загаженных госпиталей-клоак, бежали, бросая своих больных, врачи, бросая свою паству, попы…
Но были среди остающихся и немало счастливцев, которые в страшных кошмарах тифа не видели страшного кошмара жизни. Среди них был и неугомонный патриот В. М. Пуришкевич, бесплодные выстрелы которого в Григория были первым раскатом приближавшейся грозы. Он лежал в городском госпитале и ничего уже не сознавал. Среди черно-красных картин, горящих в его мозгу, видел он и темную лестницу во дворце князя Юсупова, где тогда таились они, готовясь к убийству, и водопадами неслась красная кровь в его раскаленном мозгу, и слышались ему глухие выстрелы, и рушились новороссийские горы, и с грохотом ломалось на куски седое море, и надо было спасаться и бежать, и бежать было некуда…
И все меньше и меньше пароходов оставалось в пустеющем порту. Люди, делая большие глаза, тревожно шептали о скором отходе английского дредноута, и трещали ночью по окраинам винтовки неуловимых зеленых, и копались вкруг города неизвестно уже зачем окопы, и метались генералы, и все более и более безумели оставшиеся люди… Евгений Иванович по обыкновению все колебался: ехать или не ехать? Как-то нутром он склонялся больше к тому, чтобы не ехать, но Фриц уговаривал его ехать: из Германии легче будет, вероятно, снестись с домом, а может быть, удастся и выписать своих туда. Эта мысль — как ни была она в условиях момента фантастична — пленяла Евгения Ивановича: устроиться на земле, в глуши, дать детям хорошее, здоровое образование… И он погрузился с Фрицем на переполненный пароход, который отходил в Варну…
И когда без свистков, торопливо, по-воровски, отвалил пароход от пристани, Евгений Иванович долго, не отрываясь, смотрел на взъерошенный, тревожный городок. Он был похож на разрушенный муравейник. И что-то знакомое, тяжелое и тревожное проступало в этой картине. И он вспомнил далекую Лопухинку: ах да, Растащиха!.. И стало грустно, как у свежей могилы. А по набережным и по молу растерянно бегали брошенные казаками лошади, и смотрели тревожно в море, и жалобно ржали. А сами казаки хмурыми группами замерли на палубе, а один бородач, сгорбившись около мачты, тяжело плакал…
И когда город превратился в пеструю грудку камешков и точно присел за воду, Евгений Иванович случайно посмотрел вправо: там в чистом атласном небе чуть проступала цепь снеговых гор, а на переднем плане у самого моря, задумчивый и величественный, стоял могучий Тхачугучуг, — Земля, с которой Бог…
XXXII
В БЕРЛИНЕ
Прошло несколько месяцев. Фриц, очень ловко миновав те волчьи ямы, фугасы и проволочные заграждения, которые в своей совокупности называются в наше время визой, быстро пробрался к себе на родину и сразу добыл визу и Евгению Ивановичу. И вот Евгений Иванович уже в Берлине. Очень скоро оказалось, однако, что не только выписать сюда семью, но даже и просто списаться с ней нет никакой возможности. И он, мучаясь за участь своих, — русские зарубежные газеты были полны ужасов о России — проводил день за днем в этом огромном, по-новому неряшливом Берлине, который был так мало похож на прежний, вылизанный, строгий Берлин. Он ходил, смотрел, слушал и тайно содрогался. Совокупность его берлинских наблюдений производила на него едва ли не более тяжелое впечатление, чем страшные картины гражданской войны и гибель Раста-щихи, которым недавно был он свидетелем. Он давно уже понял, что человечество в массе не желает ничему учиться даже на самых страшных опытах, что тяжелая и кровавая сказка его жизни ему легче небольших усилий, которые необходимы, чтобы жизнь эту немножко улучшить. Здесь это большая и тяжкая для сердца человеческого истина резала глаза на каждом шагу: и безумные войны, и кровавые революции никого ничему не научили, и люди беззаботно готовились начать все сызнова.


![Сэр Евгений [СИ]](/uploads/posts/books/35451/35451.jpg)