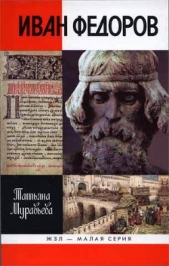Дипломатический агент

Дипломатический агент читать книгу онлайн
Юлиан Семенович Семенов родился в 1931 году в Москве. В 1954 году окончил ближневосточный факультет Московского института востоковедения. Работал на кафедре Востока исторического факультета МГУ.
С 1955 года Юлиан Семенович сотрудничает в журнале «Огонек». В качестве специального корреспондента ездит по Советскому Союзу, пишет очерки. За последние годы он посетил ряд зарубежных стран. В журнале «Знамя» в 1958 и 1959 годах напечатаны два цикла его рассказов — «Пять рассказов о геологе Рябининой» и «Будни и праздники».
«Дипломатический агент» — первая книга молодого автора. Это повесть о человеке удивительной, трагической судьбы — одном из первых русских востоковедов, Иване Виткевиче. Повесть о человеке, которого высшие сановники царской России считали государственным преступником; агенты лондонского Интеллидженс сервис — блестящим русским разведчиком; мудрый Гумбольдт и гениальный Пушкин — замечательным ученым. А люди Кара-Кумов и снежного Гиндукуша знали, что Виткевич — человек зоркого глаза, большого ума и доброго сердца.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Каково? — спросил Перовский, когда Виткевич кончил читать. — Позорище истинное! Спрячь-ка бумагу эту подальше, чтоб потомки, спаси господи, не обнаружили ненароком… Бери перо, мы им сейчас отпишем.
Иван приготовился писать. Перовский походил по комнате, а потом выкрикнул:
— Пиши! Буторену!
— Просто Буторену?
— Просто так и пиши: Буторену!
"Буторену.
На отношение Вашего Пр-ва от 9 сего октября № 337 об учреждении секретного полицейского надзора за поведением и образом жизни Титулярного Советника Пушкина во время пребывания его в Оренбургской Губернии, честь имею ответствовать, что сие отношение Ваше получено мною через месяц по отбытии отсюда г-на Пушкина в свою деревню Нижегородской губернии, а потому, хотя во время кратковременного пребывания его в Оренбурге и не было за ним полицейского надзора, но как он останавливался в моем доме, то я тем лучше могу удовлетворить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий".
Когда Иван кончил писать, Перовский бегло просмотрел лист, буркнул под нос:
— С-сукины сыны!
Подписал размашисто, зло. Иван с улыбкой посмотрел на губернатора. Перовский рассердился:
— Не смотри так! Мне самому тошно; я русский, понимаешь? А на своего Гомера этакие штуки писать приходится. Неужто у всех Гомеров одна судьба — под надзором ходить?
10
Поздняя осень в Оренбурге полна грустного очарования. Густые перелески, саженные вдоль по Уралу, растеряв последнюю золотую листву, сделались прозрачными. Воздух в них был необычайно светлым из-за того, что намокшие стволы деревьев казались черно-синими.
Закаты разливались по низкому серому небу тяжело, кроваво. Лениво шумел мелкий дождь в водосточных трубах. По ночам вода в бочках подергивалась хрупким ледком.
Как никогда остро Иван переживал все прошедшие тяжкие годы в те вечера, когда заходил к Алябьеву. В прошлом блестящий гвардейский офицер, а ныне ссыльный, он жил в Оренбурге незаметно и тихо. Все дни Алябьев проводил за разбитым, древним роялем, крашенным белой масляной краской, для того чтобы скрыть трещины и царапины. Алябьев сочинял музыку.
По вечерам у него собирались друзья: Даль, Виткевич, преподаватель ботаники в Неплюевском кадетском корпусе ссыльный поляк Фома Зан, и — редко — наведывался Перовский. Приезжал он к Алябьеву примерно раза два в полгода. Садился около рояля, молча, тяжко слушал музыку и уезжал не прощаясь. После посещений композитора Перовский делался хмурым и дня три писал длинные письма, больше похожие на исповедь, своему брату-писателю, который прятал свою родовитую фамилию под незаметным псевдонимом «Погорелец».
…Алябьев любил петь. Голос у него был низкий, широкий. Он слегка картавил, стыдился этого и подчас глотал слова, где попадалась буква "р". Когда Алябьев пел, большие глаза его под толстыми стеклами очков делались блестящими, а зрачки расширялись, придавая глазам растерянное, испуганное выражение.
Даль, слушая Алябьева, не мог скрыть слез. Виткевич, обхватив голову, раскачивался в такт песне и шевелил губами, неслышно подпевая Алябьеву. Фома Зан, считавший музыку проявлением дворянской, шляхетской избалованности, просто-напросто наблюдал за всеми, всех любя и всем втайне поклоняясь.
Кончив петь, Алябьев продолжал сидеть у рояля и долго не поднимал рук с клавишей, сохраняя тонкий, затухающий звук. Звук умирал неслышно, медленно, словно летний вечер, и так же красиво.
— Прав был страдалец, — задумчиво сказал Алябьев, — прав был, когда утверждал, что знающий русскую народную песню видит в ней скорбь душевную.
— Кто этот страдалец? — спросил Иван.
Алябьев не ответил.
— Радищев, — негромко сказал Даль, нахмурившись.
— Даль все знает, — усмехнулся Алябьев, — он умный, он счастливый, ему звезда светит, его губернатор любит.
Владимир Иванович поморщился, но смолчал: он знал, как тяжело Алябьеву, безвинно осужденному, всеми отвергнутому. Он прощал Алябьеву грубости, так же как Перовский — Виткевичу.
— А мне, признаться, порой веселой песни хочется, — сказал Даль, желая изменить разговор, — осенью тяжелые песни грустно слушать.
— В России веселых песен нет, — заметил Алябьев. — Я вот тут намедни записывал новые песни — все, словно на подбор, грустны и раздумчивы. Спросил я тогда ту бабу, что мне их певала: «А веселей у тебя нету?» Она ответила: «Веселое с веселого поется. А у нас на свадьбу да на рожденье то же, что и на смерть, поют. Оттого как жена да дите — камень на шее кормильцу. Коль нет в жизни веселого — так уж веселей ничего не выдумаешь…»
Алябьев обвел взглядом друзей. Рассмеялся. Запел:
Захлопнув крышку рояля, Алябьев поднялся с низенького, скрипучего стула.
Обернулся к Виткевичу и спросил:
— Иван Викторович, вы мне обещали новые киргизские песни перевесть. Сделали?
— Да.
— Так же интересно, как и в прошлый раз?
— Да.
Фома Зан рассмеялся:
— Вот этого увлечения, Александр Александрович, я не понимаю. Виткевич бредит киргизами — сие понятно: ему другой судьбы нет, он себя Востоку посвятил. Но вы ж музыкант!
Алябьев ничего не ответил. Снял со стены гитару, прижался щекой к деке, тронул струны и запел:
— Ну, разве не чудо, Зан? — вдруг, оборвав струну, спросил Алябьев. — Вот вам киргизы, вот вам Виткевич!
— Это очень красиво, — сказал Даль, — это изумительно!
— Сколько простора в этом, сколько грусти, ожидания! Сколь чутка душа певца, сложившего эти строки! — говорил Алябьев, сидя рядом с Иваном.
Виткевич счастливо улыбался: его понимали друзья.
Иван любил заходить к Алябьеву по утрам, когда тот, не умывшись, в халате, сидел за роялем, обрабатывая песни башкир, киргизов, таджиков. Виткевич любовался тем, как Алябьев находил в разрозненной, не сбитой в одно целое песне тонкую удивительную мелодию. Он ловил эту мелодию и заставлял ее звучать. И в песне, которую заново рождал композитор, Иван видел то, что ему довелось уже пережить, и чувствовал то, что пережить ему еще придется…