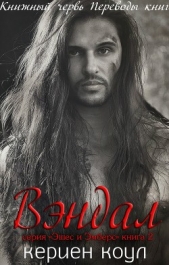Вятские парни
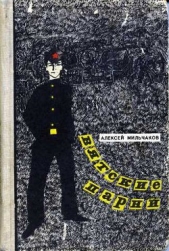
Вятские парни читать книгу онлайн
Писатель Лев Лубнин, ближе других знавший А. И. Мильчакова, очень вдумчиво и бережно сделал «доводку» рукописи, приложил свою руку там, где автор не успел этого сделать, уточнил и расшифровал многие места книги. И она засверкала своей целенаправленностью, динамикой и движением, своими звонкими красками.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Не знаю, что дошло до вятских жителей о девятом января… А у меня и сейчас сердце заходится, как вспомню… Все перед глазами! Все четко вижу…
Мой отец узнал, что «крестный ход» к царскому дворцу поведет священник. И тоже идти надумал, бить челом царю, уговорил мать и меня, слепого щенка. И вот пошли за золотыми хоругвями… Пели «Спаси, господи, люди твоя…» И я пел…
Щепин нервно скрутил папиросу, сломал, зажигая, спичку. Заговорил, покашливая, трудно, словно в горле у него ком колючий остановился. Под кожей заходили желваки:
— Знаете, наверно, как нас встретил коронованный палач? Выстрелами!.. Паника… Родителей я потерял… Страшно мне стало. Подросток же, сами понимаете, — Щепин встал, подошел к окну и, не поворачиваясь, коротко и жестко сказал: — Отца убили. Мать с сестренкой в толчее задавили… И остался я один.
Колька слыхал не раз рассказы о девятом января от студентов-луковчан, приезжавших на каникулы, от разных людей, сосланных в Вятку и ютившихся в дешевых углах и комнатушках на Луковицкой. Но тогда эти события почему-то казались ему страшной, но уже далекой историей. А теперь каждое слово Щепина отражалось в его сердце, заставляло волноваться. Колька смотрел на бледное лицо Щепина, видел, как под тонкой кожей надуваются желваки, а глаза становятся колючими, и словно бы видел сейчас и огромную площадь перед дворцом, и ровную линию солдат, и кричащую в панике толпу. Прежде говорили об этом шепотом, с оглядкой. А Щепин рассказывал прямо, грубовато выкладывал перед конкордистами всю правду. И Колька гордился тем, что этот бывалый человек, раненый солдат, много читавший умных книг и много повидавший в жизни, доверяет конкордистам и разговаривает с ними на равных.
— На пятнадцатом году я осиротел, но прозрел, — говорил Щепин. — На заводе подружился с хорошими людьми, которые немало в тюрьмах за правду посидели. От них набирался ума-разума. Не скрою, довелось и мне попить водицы из тюремной кружки… А дальше — забрили мне лоб. Фронт. Кровь и смерть. В Галиции меня подкосило… Война эта — для нашего брата — горькая школа.
И снова Колька услышал теперь уже от Щепина не очень понятные ему слова о войне. Эти слова — «война — горькая школа» и колючая усмешка Щепина вносили беспокойство в душу и никак не связывались с теми героическими снами, которые так часто видел Колька и которые преследовали его даже наяву.
Щепин замолчал. И Аркаша сказал, посматривая на Женю:
— Тяжелая у вас жизнь. Простите, что из-за любопытства Жени вам вновь пришлось пережить все это.
Женя вскочила и выбежала из комнаты.
— Напрасно вы, молодой человек, обидели хорошую девушку, — заступился за Женю Щепин. — Так как же насчет моего вступления в общество?
— Принимаем, принимаем! — крикнула из дверей Женя.
— Посвящаем в члены ордена конкордийцев! — поднял руку над головой Щепина Колька. — Вы теперь наш!
Все одобрительно загалдели.
— Только я не спортсмен, не танцор уже, не певец, не музыкант, вообще — не бим-бом!
— Не в том дело! — крикнул Колька.
Из-за дверей высунулась Женя и пригласила к чаю.
Последний нынешний денечек
Станция Вятка I ожила. На путях разгружались составы, переполненные то ранеными или беженцами, то военнопленными. Эшелоны заполняли все пути, а новые поезда с запада подходили и подходили.
В последнее время с вокзала часто тянулись по Владимирской улице серые колонны пленных, однако скупые строчки оперативных сводок не сулили побед русскому оружию.
Армия отступала. Царю были нужны новые солдаты.
Из Перми и Котласа проходили через Вятку длинные составы товарных вагонов, напичканных мобилизованными до предела: «40 человек или 8 лошадей».
В городе, на заборах и столбиках, висели приказы воинского начальника об очередном призыве.
Забрили лбы молодым, потянули ратников второго разряда, вспомнили и белобилетников. Объявили мобилизацию лошадей и повозок.
Под лазареты и казармы были заняты многие школьные помещения. На всполье за городом, где муштровали неотесанных новобранцев, рассыпалась барабанная дробь и слышалось недружное «ура».
На рынке с каждым днем дорожали продукты. В лавках кое-где исчез из продажи сахар.
А беженцы все ехали и ехали, и город обязан был приютить бездомных, обогреть обездоленных, накормить голодных.
На видных местах забелели листовки, подписанные комиссией городской земской управы.
В воскресный день по улицам разошлись во все концы города сборщики. Появились и на Кикиморке две девушки с большой сумкой и металлической кружкой на ремешке. Постучались к Минеевне. Старуха впустила девушек, узнав что им нужно.
— Идите за мной. Пять ступенек. Пожалуйте в комнату, а я пошарю в сундуке.
Девушки понравились Минеевне. У кареглазой, чернявой худышки коса до пояса, а у ее подружки серые волосы закручены на затылке в клубок, личико кругленькое.
Пока Минеевна возилась у сундука, чернявая девушка спросила:
— У вас, кажется, Бачельников живет, чертежник?
— Саня-то? Здесь проживает, вон за стенкой. А тебе что, повидаться с ним хочется?
— Я просто так спросила. Он с моим папой у архитектора служит.
— Не знаю, милая, будет ли служить. С утра унесся к воинскому и до сей поры нет. Забрили, поди, головушку. Жаль парня. Худого слова от него не слыхивала. А ты, случайно, не зазноба ли Санина?
— Ой, что вы, бабушка! Ученицы мы. В любви не разбираемся.
— Так я и поверила вам, — покосилась Минеевна на сборщиц. — Еще как, поди, разбираетесь. Нате-ка вот платье, еще крепонькое. Это — юбка, тоже можно носить. Кофта — всего раза два надевана. Бог с ней. Плат — стара для него я. Простынка залатанная, но стиранная. Полотенчико.
Девушки все уложили, поблагодарили щедрую старуху.
— Как хоть звать-то вас, красавицы?
— Меня — Катей, а ее — Женей.
А Санька в это время был на медицинском осмотре. Врач предложил белобилетнику раздеться до пояса. Приложил ухо с деревянной трубочкой к груди, потом — к спине, придавил металлической лопаткой язык и потребовал сказать «а». Спросил, не болел ли Санька стыдной болезнью, и, скользнув оценивающим взглядом по его фигуре, изрек: годен.
Новобранцу дали на сборы два дня. Он в тот же день получил расчет, попрощался с коллегами. По пути зашел в гастрономический за вином, купил два фунта колбасных обрезков. Сбегал еще в змиевский трактир за пивом. Накрыл свой стол чистой скатеркой и поставил в центре графинчик с водочкой, бутылку рябиновой. На тарелку высыпал из кулька обрезки колбасы и ветчины, открыл консервы, нашел в тумбочке горчицу, очистил луковицу, нарезал хлеба. Бутылки с пивом на опохмелку он спрятал в углу за кроватью.
— Недурственно, — оглядывая стол, произнес Санька и постучал в заборку. — Минеевна! Зайди-ка на минутку!
Старуха показалась в дверях.
— Батюшки! — всплеснула она руками. — На столе-то у тебя, как на свадебном!
— Да ты входи, Минеевна, — потащил Санька за рукав упиравшуюся хозяйку. — Рюмочку только. Сама понимаешь, отказываться нельзя.
— Что ты, что ты? — попятилась Минеевна. — В церковь я собралась. В монастырь к Трифону схожу, о здравии твоем божьему угоднику помолюсь. А ты не начальника ли своего ожидаешь? Дочка его давеча здесь была.
— Кто? Катя? — чуть ли не вскричал Санька загоревшись.
— Катей назвалась. С подругой приходила. Вещи для беженцев собирает. О тебе спрашивала. Обе — хохотушки. Парня на войну забирают, а им — хаханьки.
Санька закрыл за хозяйкой дверь, налил водки, выпил, морщась, поддел вилкой ломтик ветчины и заел горечь. Намазав кружок колбасы горчицей, он повторил. Отдышавшись, пробормотал: