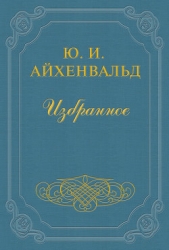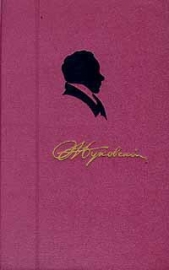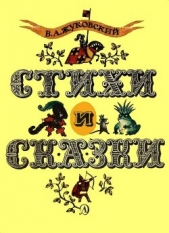Жуковский

Жуковский читать книгу онлайн
Эта книга — жизнеописание великого русского поэта В.А. Жуковского (1783-1852), создателя поэтической системы языка, ритмов и образов, на основе которой выросла поэзия Пушкина и многих других поэтов XIX — начала XX веков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Жуковского давно уже интересовал жанр баллады, и он делал попытки переводить Бюргера. Попытки оканчивались неудачей. Для того чтобы понять, почему это так, он вынес этот вопрос на уроки с Машей и Сашей. Вот какие мысли набросал он для этих занятий: «Бюргер в этом роде единственный, ибо он имеет истинно приличный тон избранному им роду стихотворения: ту простоту рассказа, которую должен иметь повествователь. Его характер: счастливое употребление выражений простонародных и в описаниях и в выражении чувства; краткость и ясность; приличие и разнообразие метров. В особенности изображает он очень счастливо ужасное, то ужасное, которое принадлежит к ужасу, производимому в нас предметами мрачными, призраками мрачного воображения; картины свои заимствует он из таинственной природы того света, который не есть идеальный свет, созданный фантазиею древних поэтов, но мрачное владычество суеверия. Шиллер менее прост и живописен; язык его не имеет привлекательной простонародности Бюргерова языка; но он благороднее и приятнее; он не представляет предметы так верно, но он украшает их красками блестящими. Бюргер действует на воображение, Шиллер на фантазию (то же воображение, но только такое, которому все предметы представляются сквозь призму поэзии, следственно не в собственном, а в некотором заимственном образе)». 3
Потом было чтение басен, сначала Дмитриева (они печатались в «Вестнике Европы» в 1802-1805 годах, и Дмитриев сразу же был признан «русским Лафонтеном» — как считал Жуковский — по праву), затем Эзопа, Геллерта, Лафонтена и Флориана. Жуковский и здесь вынес на уроки с Машей и Сашей обдумывание этого жанра. «Что в наше время называется баснею? — напишет он в заметке, использованной позднее для статьи о Крылове. — Стихотворный рассказ происшествия, в котором действующими лицами обыкновенно бывают или животные, или твари неодушевленные. Цель сего рассказа — впечатление в уме какой-нибудь нравственной истины, заимствуемой из общежития и, следовательно, более или менее полезной. Отвлеченная истина, предлагаемая простым и вообще для редких приятным языком философа-моралиста, действуя на одни способности умственные, оставляет в душе человеческой один только легкий и слишком скоро исчезающий след. Та же самая истина, представленная в действии и, следовательно, пробуждающая в нас и чувство и воображение, принимает в глазах наших образ вещественный, впечатлевается в рассудке сильнее... Таков главный предмет баснописца».
Слог басен Дмитриева после Сумарокова и Хемницера стал живее, живописнее, в них стало больше поэзии... Неожиданно для себя Жуковский написал несколько басен на сюжеты Флориана. Дело в том, что, читая басни Дмитриева, он вместе с ученицами порядком все-таки скучал — холодны они, ровны, веселья нет в них, народного нет ничего! Басни Жуковского получились совершенно необыкновенными. Изящество стиха сочеталось в них со стремительностью рассказа, с добродушным юмором, иногда с веселым гротеском ярмарочного райка. С трудом верилось, что это писал автор элегий «Сельское кладбище» и «Вечер». Обстановку басен Жуковский смело русифицировал. Так «один фигляр в Москве показывал мартышку» (мартышка имела прозвище Потап), а сорока жаловалась на пьяного мужа совсем как баба на белёвской улице:
Жуковский читал эти басни, и Маша — и особенно Саша — смеялись, как никогда. Басни с первого чтения запоминались, так они были складны:
Ни у Флориана, ни у Лафонтена нельзя было русскому стихотворцу занять такой характерности и живости речи. Не было такого и у Дмитриева... Жуковский решил отдать свои басни в «Вестник Европы», показал их Дмитриеву (который их, к удовольствию Маши и Саши, очень хвалил...), но, закончив еще несколько начатых басен, навсегда оставил этот род.
Жуковский был для своих учениц и педагог и товарищ, они говорили ему «ты», называли то Василием Андреевичем, то Базилем. Жизнь его была вся для них открыта. Он стремился к тому, чтоб и мысли его так же были известны им. Маша приняла эту открытость — в отношениях с Жуковским она стала для нее нормой. Для нее стало привычкой анализировать с ним свои поступки, даже самые мелкие. Так постепенно шлифовался ее характер, складывалась вся ее натура, и в результате возникла та необыкновенная по своей красоте личность, которая была поэтическим созданием Жуковского.
Маша была очень рада тому, что Жуковский не поедет ни в Геттинген, ни в Иену, ни в какой-либо другой немецкий город, — этому помешали важные исторические события. После Аустерлицкой битвы Наполеон Бонапарт стал властелином Европы. В марте 1806 года он сделал своего брата Жозефа королем Неаполя, в июне — брата Людовика королем Голландии. В сентябре против Наполеона выступила четвертая коалиция: Россия, Англия, Пруссия и Швеция. 30 августа русским правительством была объявлена война Франции. По всей России начало формироваться ополчение, или, как его называли тогда, милиция. Предполагалось, что Наполеон планирует захват русских земель. В октябре на помощь Пруссии был отправлен корпус Беннигсена... В одном из писем к Жуковскому Дмитриев рядом с призывом приехать в Москву выражает желание видеть какие-нибудь его новые поэтические произведения, подсказывает сюжеты: ода «Четыре времени дня»; идиллия «Возвращение воина»; «Бард на поле битвы после ночного сражения». Все это были уже общие, не раз использованные темы, но это не смущало ни Дмитриева, ни Жуковского. Сюжет можно взять где угодно и какой угодно. Мастерство поэта — в разработке, в стиле, в мыслях!
Жуковский хорошо знал оду Грея «Бард», подражание Оссиану. Там в самом деле величественная картина: проходит войско, а бард, стоя на скале, поет под звуки арфы... В одно ослепительное мгновение Жуковский увидел свою будущую «Песнь барда». Певец, подобный суровому Оссиану, старцу, с развевающимися седыми волосами, поющему славу погибшим в сражении. Пылает огромный костер из целых дубов. Воины насыпают над телами убитых высокий холм. Бард ударяет по струнам арфы и рассказывает о подвигах тех, кто нал, призывает воинов к мести... «А «Слово о полку Игореве»? — подумал Жуковский. — И там — рассказ о поражении... призывы сплотиться для отпора врагам...»
Образы Бояна и Оссиана слились в его воображении в одно лицо. Виделись ему некие древние «славяне» и даже «россы» — освещенные трепетным пламенем костра, с окровавленными копьями в руках... Сражение при Аустерлице ничего не говорило его сердцу, зато как сильно чувствовал он то сложное слияние печали, стыда, порыва к бою, уязвленной гордости, уверенности в своей силе, которое кипело в российском обществе не только в Петербурге и Москве, но и в Белёве! Вот это всеобщее русское чувство и сделал он темой своей «Песни барда лад гробом славян-победителей». И здесь же секрет ее громадного успеха. Поэт обращается не к разуму, а к сердцу читателя. И тем сильнее было действие призывов барда:
В начале ноября Жуковский уехал в Москву. «Песнь барда» была отдана Каченовскому в «Вестник Европы» — он наметил печатать ее в декабре.