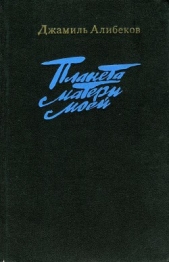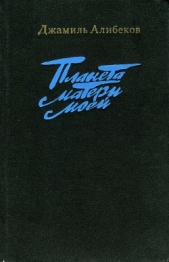Кавалерист-девица

Кавалерист-девица читать книгу онлайн
Надежда Андреевна Дурова (1783-1866) - человек героической биографии, первая женщина-офицер. Жизнь ее воспроизведена в ряде произведений русской дореволюционной и советской литературы. Н. Дурова была талантливой писательницей, творчество которой высоко ценил А.С. Пушкин, В.Г. Белинский. В книгу включены ее автобиографические записки «Кавалерист-девица», печатающиеся здесь полностью
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вечером полку нашему приказано быть на лошадях. До глубокой полночи сидели мы на конях и ожидали, когда нам велят двинуться с места. Теперь мы сделались ариергардом и будем прикрывать отступление армии. Так говорит наш ротмистр. Устав смертельно сидеть на лошади так долго, я спросила Вышемирского, не хочет ли он встать; он сказал, что давно сошел бы с коня, если б не ожидал каждую минуту, что полк пойдет. «Мы это услышим и вмиг сядем на лошадей, - сказала я, - а теперь переведем их за этот ров и ляжем тут на траве». Вышемирский последовал моему совету: мы перевели своих лошадей через ров и сами легли в кустах. Я обвила повод около руки и тотчас заснула. Слышуимя свое два раза повторенное! чувствую, что Алкид толкает меня головою, храпит и бьет копытом в землю; слышу, что земля задрожала подо мною и потом все затихло! Сердце мое замирало, я понимала опасность, силилась проснуться, и не могла. Алкид мой! бесценный конь! хотя остался один, слышал в отдалении своих товарищей, был на свободе, потому что повод ослаб и спал с руки моей, не ушел, однако ж, от меня, но только беспрестанно бил копытом землю и храпел, наклоняя ко мне морду. С трудом наконец открыла я глаза, встала; вижу, что Вышемирского нет; смотрю на место, где стоял полк, его нет! Я окружена мраком и безмолвием ночи, столь страшной в теперешнем случае. Глухо отдающийся топот лошадей дает мне понять, что полк удаляется на рысях; спешу сесть на Алкида, и справедливость требует признаться, что нога моя не вдруг сыскала стремя! Сев, я опустила повода, и мой конь, верный, превосходный конь мой перескочил ров и прямо через кустарник понес меня легким, быстрым скоком прямо к полку, догнал его в четверть часа и стал в свой ранжир. Вышемирский сказал, что он считал меня погибшим; он говорил, что сам очень испугался, слыша полк удаляющимся, и потому, кликнув меня два раза, оставил на волю божию участь мою.
29-го и 30-го Мая
Гейльзберг. Французы тут дрались с остервенением. Ах, человек ужасен в своем исступлении! Все свойства дикого зверя тогда соединяются в нем! Нет! это не храбрость! Я не знаю, как назвать эту дикую, зверскую смелость, но она недостойна назваться неустрашимостию! Полк наш в этом сражении мало мог принимать деятельного участия: здесь громила артиллерия и разили победоносные штыки пехоты нашей; впрочем, и нам доставалось, мы прикрывали артиллерию, что весьма невыгодно, потому что в этом положении оскорбление принимается безответно, то есть должно, ни на что несмотря, стоять на своем месте неподвижно. До сего времени я еще ничего не вижу страшного в сражении, но вижу много людей, бледных как полотно, вижу, как низко наклоняются они, когда летит ядро, как будто можно от него уклониться! Видно, страх сильнее рассудка в этих людях! Я очень много уже видела убитых и тяжело раненных! Жаль смотреть на этих последних, как они стонут и ползают по так называемому полю чести! Что может усладить ужас подобного положения простому солдату? рекруту? Совсем другое дело образованному человеку: высокое чувство чести, героизм, приверженность к государю, священный долг к отечеству заставляют его бесстрашно встречать смерть, мужественно переносить страдания и покойно расставаться с жизнию.
В первый раз еще опасность была так близка ко мне, как уже нельзя быть ближе; граната упала под брюхо моей лошади и тотчас лопнула! Черепки с свистом полетели во все стороны! Оглушенная, осыпанная землею, я едва усидела на Алкиде, который дал такого скачка в сторону, что я думала, в него вселился дьявол. Бедный Вышемирский, который жмурится при всяком выстреле, говорит, что он не усидел бы на таком неистовом прыжке; но всего удивительнее, что ни один черепок не задел ни меня, ни Алкида! Это такая необыкновенность, которой не могут надивиться мои товарищи. Ах, верно молитвы отца и благословение старой бабушки моей хранят жизнь мою среди сих страшных, кровавых сцен.
С самого утра идет сильный дождь; я дрожу; на мне ничего уже нет сухого. Беспрепятственно льется дождевая вода на каску, сквозь каску на голову, по лицу за шею, по всему телу, в сапоги, переполняет их и течет на землю несколькими ручьями! Я трепещу всеми членами, как осиновый лист! Наконец нам велели отодвинуться назад; на наше место станет другой кавалерийский полк; и пора! давно пора! Мы стоим здесь почти с утра, промокли до костей, окоченели, на нас нет лица человеческого; и сверх этого потеряли много людей.
Когда полк наш стал на дистанцию, безопасную от выстрелов неприятельских, то я попросила ротмистра позволить мне съездить в Гейльзберг, находившийся от нас в версте расстоянием. Мне нужно было подковать Алкида; он потерял одну подкову, да еще хотелось купить что-нибудь съесть; я так голодна, что даже с завистию смотрела на ломоть хлеба в руке одного из наших офицеров. Ротмистр позволил мне ехать, но только приказал скорее возвращаться, потому что наступала ночь и полк мог переменить место. Я и Алкид, оба дрожащие от холода и голода, понеслись, как вихрь, к Гейльзбергу. В первой попавшейся мне на глаза заездной корчме поставила я своего коня и, увидя тут же кузнецов, кующих казацких лошадей, просила подковать и мою, а сама пошла в комнату; в ней был разведен большой огонь на некотором роде очага или камина какой-то особливой конструкции; подле стояли большие кожаные кресла, на которые я в ту ж минуту села, и только успела отдать жидовке деньги, чтобы она купила мне хлеба, как в то же мгновение погрузилась в глубочайший сон!.. Усталость, холод от мокрого платья, голод и боль всех членов от продолжительного сиденья на лошади, юность, не способная к перенесению стольких соединенных трудов, все это вместе, лиша меня сил, предало беззащитно во власть сну, как безвременному, так и опасному. Я проснулась от сильного потрясения за плечо: открыв глаза, с изумлением смотрю вокруг себя! Не могу понять, где я? зачем в этом месте? и даже что я такое сама! Сон все еще держит в оцепенении умственные силы мои, хотя глаза уже открыты! Наконец я опомнилась и чрезвычайно встревожилась; глубокая ночь уже наступила и покрывала мраком своим все предметы; на очаге едва было столько огня, чтоб осветить горницу. При свете этого то вспыхивающего, то гаснущего пламени увидела я, что существо, потрясавшее меня за плечо, был егерский солдат, который, сочтя меня по пышным белым эполетам за офицера, говорил: «Проснитесь! проснитесь! ваше благородие! канонада усиливается! ядра летят в город!» Я бросилась опрометью туда, где поставила свою лошадь; увидела, что она стоит на том же месте; посмотрела ее ногу - не подкована! В корчме ни души: жид и жидовка убежали! о хлебе нечего уже было и думать! Я вывела своего Алкида и увидела, что еще не так поздно, как мне показалось; солнце только что закатилось, и вечер сделался прекрасный, дождь перестал, и небо очистилось. Я села на моего бедного голодного и неподкованного Алкида. Подъехав к городским воротам, я ужаснулась того множества раненых, которые тут столпились; должно было остановиться! Не было никакой возможности пробраться сквозь эту толпу пеших, конных, женщин, детей! Тут везли подбитые пушки, понтоны, и все это так столпилось, так сжалось в воротах, что я пришла в совершенное отчаяние! Время летело, а я не могла даже и пошевелиться, окруженная со всех сторон беспрестанно движущейся навстречу мне толпою, но нисколько не редеющею. Наконец стемнело совсем; канонада затихла, и все замолкло окрест, исключая того места, где я стояла; тут стон, писк, визг, брань, крик чуть не свели с ума меня и моего коня; он поднялся бы на дыбы, если б было столько простора, но как этого не было, то он храпел и лягал кого мог. Боже, как мне вырваться отсюда! где я теперь найду полк! Ночь делается черна, не только темна! Что я буду делать!! К великому счастию моему, увидела я, что несколько казаков пробиваются как-то непостижимо сквозь эту сжатую массу людей, лошадей и орудий; видя их ловко проскакивающих в ворота, я вмиг примкнула к ним и проскочила также, но только жестоко ушибла себе колено и едва не выломила плечо. Вырвавшись на простор, я погладила крутую шею Алкида: «Жаль мне тебя, верный товарищ, но нечего делать, ступай в галоп!» От легкого прикосновения ноги конь мой пустился вскок. Я вверилась инстинкту Алкида; самой нечего уже было браться распоряжать путем своим; ночь была так темна, что и на двадцать шагов нельзя было хорошо видеть предметов; я опустила повода; Алкид скоро перестал галопировать и пошел шагом, беспрестанно храпя и водя быстро ушми. Я угадывала, что он видит или обоняет что-нибудь страшное; но, не видя, как говорится, ни зги, не знала, как отстраниться от беды, если она предстояла мне. Очевидно было, что армия оставила свое место и что я одна блуждаю среди незнаемых полей, окруженная мраком и тишиною смерти!