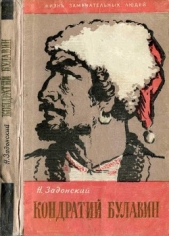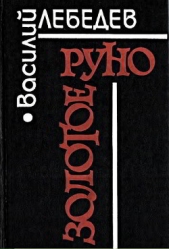Обречённая воля

Обречённая воля читать книгу онлайн
Трудовая жизнь Василия Лебедева началась очень рано. Он работал грузчиком, гвоздильщиком, поваром. После окончания университета преподавал в школе русский язык и литературу.
В 1969 году выходит первая книга повестей и рассказов Василия Лебедева «Маков цвет». Книга удостоена премии Ленинского комсомола. Позднее появились книги «Высокое поле», «Жизнь прожить», «Его позвал Гиппократ» и другие.
Повесть «Обречённая воля» — новое слово в творчестве писателя, первое его обращение к исторической теме. Повесть рассказывает о Кондратии Булавине — руководителе восстания на Дону в начале XVIII века. Целью восстания была борьба за волю Дикого поля, но это движение переросло в борьбу за свободу всех угнетённых, бежавших на Дон от чудовищной эксплуатации.
Действие в повести развивается по двум сюжетным линиям. Одна — жизнь булавинской вольницы, т. е. казаков, запорожцев, восставших башкир, другая — царский двор в лице Петра I и его приближённых. Трагический исход восстания наиболее ярко отразился в драматизме судьбы самого Булавина и его семьи.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Гей, добрый человек! И тебя — тоже?
Булавин сразу, как только выехал из ворот, заметил далеко впереди дохлую лошадёнку и какого-то криво сидящего на ней верхового человека. Сейчас этот человек окликнул его. Он смотрел на Булавина из-под рыжей бараньей шапки, изъеденной молью.
— Меня тоже пытали, не я ли де порубил тех прибыльщиков? Ха! А мне-то какая прибыль? Не попутчик ли?
— Еду вверх, до Есауловской, — ответил Булавин и спросил: — Так это виновников ищут?
— Подлинно розыск чинят! Покажи, говорят, твою саблю, а у меня и сроду не было ей, сабли-то! Откуда, говорю, у меня сабле взяться, когда я плоты гоняю из Воронежа в Азов?
— А лошадь у тебя откуда?
— А это у нас, плотогонов, этакой уряд заведён: сюда плывём на плотах, а тут покупаем какую-никакую лошадёнку.
— Зачем такая нужна? Это не лошадь, одни копылья! У нас самый что ни на есть захудалый казачишка на такую не сядет: его бабы вальками зашибут.
— То каза-а-ак, — протянул сладко попутчик и пристроился слева от Булавина. — Казак — вольный человек, в седле вырос, а наше дело простое: вот купил я лошадёнку за полтора-те рубли, сам на ней доеду с грехом пополам, а в Воронеже за три рубли продам, если подкормить.
— А если не кормить? — спросил Булавин с еле приметной улыбкой, впервые за последние дни осветившей его лицо.
Попутчик глянул на шрам, зарывшийся в бороду на левой щеке, на тяжёлую складку в межбровьи, этого, по всему видать, домовитого казака, уловил в голосе усмешку, но не принял её.
— А коль не кормить, то всё одно продать стоит. У нас в Воронеже лошадей худых свиньям режут на закорм. Знатное сало!
Булавин только кивнул в ответ. Загляделся вперёд. Чем дальше они отъезжали от города и углублялись в степь, тем слабее становилось дыханье моря, откуда по-прежнему, как и накануне, бежали облака, низкие, холодные, но не те тяжёлые, с обвисшими краями, что обтряхивают с себя дожди. Эти ещё повременят. Вот уже и ветер напился степного духу — запах сушью сгоревших за лето трав, загорчил слегка полынью.
— А скажи-ко мне, добрый человек, — спросил попутчик. — Вот я уж третью пасху в Воронеже живу и всё с умом борюсь: отчего это в украйных землях, где мне довелось бывать, и тут, по Дону, народ сало больно любит? У нас в Новегороде ровно бы не так сильно его почитают.
— Так уж от дедов повелось, — буркнул Булавин.
— От дедов! У нас в Новегороде тоже без дедов не живали!
— У вас татар не было, а тут татаре ежегодь наведывались. Пробьются, как черви, по степи чуть не до самой Москвы, неприметны по балкам да по травам высоким. Всё больше на троицу норовили, когда трава высока, а потом обратно катятся, а по дороге жгут всё, людей и скот в Крым гонят, лютые! Люди, что голову спасали, из лесов да балок выходили и выживали, потому как свинья всегда оставалась.
— А! Оставалась! Хитра, должно, тварь! — хихикнул попутчик.
— Не хитра! Татаре, как и турки, не жрут свинью, вот она и остаётся. Прискачут казаки на пожарище — всё чисто: ни людей, ни куреней, ни скота, а свинья ходит, палёной щетиной воняет, да в пепле роется. Не жрут татаре свиней — в том спасенье христианское.
— А! Не жрут! — крякнул попутчик радостно. — Вот ведь оно как, не жрут! Вот тут и привычка дедова?
— Тут и привычка.
— А верно ли, добрый человек, что они все непоседы?
— Верно. Они не любят насиженное, потому и мечутся по степи.
— А! Не любят! — опять обрадовался попутчик и мигом сорвал шапку, сунул её под зад.
— Чего без седла? — покосился Булавин.
— Седло-то денег стоит, а мне за прогон от Воронежа до Черкасска всего рупь с полтиною платят.
— Проедешь без седла столько вёрст — на карачках всю зиму ходить будешь.
— Не всю! Недельку похожу, как в прошлом годе, а больше не велено: на лесных повалах падогов [7] много, царёвы слуги на них не скупятся.
Попутчик и об этом житье своём говорил отвратительно весело, будто рассказывал о святках да скоморохах. Булавин и раньше замечал в людях тех подневольных московских земель это непонятное казаку безропотье, но сейчас оно показалось ещё больше холопьим. Булавин не выдержал, пустил лошадь намётом.
— Стой! Погоди, добрый человек! — закричал попутчик с таким неподдельным испугом, что пришлось осадить.
— Ну, в чём нужда? — нахмурился Булавин.
— Не гони! Не оставляй меня в степи: боюся! Не ровён час, налетят степняки, до смерти забьют. В прошлом годе так-то троих наших порубили.
Он подтрясся к Булавину дрянной, икотной рысцой, от которой в утробе мужика клокотало и булькало.
— Так я ж с тобой так до Покрова не приеду в Есауловскую.
— Мне только до Цимлянской. Там мы все сбор учиняем. Так уж у нас повелось: из Азову, из Черкасска, из Таганьего Рогу — со всех верфей наши плотогоны туда соберутся. Все-то вместе ничего не устрашимся, да так и пойдём Доном до самого верху. Дон-от ведь нас кормит и поит: где рыбки изловим, где хлебушко купим, где и скрадём — прости господи! — мы ить что божьи люди идём, валом валим. Кормит Дон, нечего бога гневить, а степь — она и есть степь.
Булавин не стал объяснять этому забитому человеку из Руси московской, что такое степь, что это за воля, что это за жизнь! Хороша она, степь, в любую пору, а особенно весной, когда сочные травы — по плечи и дух такой, что вместе с лошадью ту траву есть охота. А кругом-то, а кругом-то — и шорохи звериные, и щебет птичий, и столько всяких соблазнов для доброго охотника, столько раздолья для гульбы этой, что нигде, должно быть, нет такого рая, как в степи родной! Только что-то не стало в ней жизни казаку. Куда подевалась сила казацкая? Кто выкрал, высосал её и когда? Уж не Максимов ли атаман продаёт реку Дон боярам московским? Как тут ответишь на всё это неразмысленное крошево, что забилось в голову? Как? Нет, не совладать одному, надо крепкую думу думать с хорошим друзяком, с человеком большой головы — с атаманом Некрасовым.
— Добрый человек, а чего это у тя в правой-то руке блестит?
Булавин глянул вправо, увидел тёмно-свинцовую полосу, пробившуюся из-за увалов, и понял, что в этом месте они выехали к Дону.
— То не река ли Дон?
— Он, Дон Иваныч наш!
Они теперь ехали вровень, придерживаясь берега. В полдень, в час глухой степи, пришлось сделать остановку, в основном из-за лошадёнки попутчика. По ручьевой ложбине, прорезавшей берег, спустились к самой воде. Лошади, осторожно ступая по светлой крошке плитняка, вышли на мелководье и долго пили, не шелохнувшись, будто целовались с рекой.
Булавин достал из перемётной сумы сыр, нарезал его саблей.
— Ешь!
— Чего это? — приоткрыл веки попутчик.
— Пьянырь.
— Спаси тя бог! — мужик кинул торопливо крёстное знаменье, схватил кусок побольше. — Вот ведь недаром говорится: добрый товарищ — половина дороги.
Задолго до Цымлянской попутчик высмотрел на донском берегу артель гулящих людей. Присмотрелся получше — признал своих, Он так обрадовался, что, забыв про боль, выдернул из-под себя шапку, замахал ею в воздухе и едва не галопом направил свою мослатую худобу к ним, даже не простившись.
Булавин не поехал за ним, да его и не звали. Он лишь придержал ненадолго лошадь, глянул опытным глазом на озирающуюся рвань и всё понял: эти не вернутся в Воронеж, а пойдут либо гулять по Дикому полю, либо осядут где-нибудь в новорубленных городках.
15
Опоясанный валом земли, дубовым тыньем-остеном, Есауловский городок выходил одной стороной прямо к Дону, но и со стороны реки стружемент был защищён надёжным забором и хранил покой казацких куреней. Подымались осенние дубы, неподвижно стояли тёмные свечи пирамидальных тополей, прозрачными куполами круглились вербы, а сквозь них издали, от самых городовых ворот, проглядывали крыши куреней. Белый, атаманский, двумя окошками на прогон, приветливо манил к себе.
Игнат Некрасов так и не вернулся ещё со своей странной рыбалки, о которой никто ничего не знал, но Булавин теперь не спешил и решительно остался ждать. Он днями слонялся по берегу Дона или сидел на базу под серой продувью дикого вишняка и вместе с сыном Некрасова занимался от скуки пустяками — вырезал деревянные ложки, долбил корыто для свиней, а в тот день, как приехать хозяину, они взялись чинить бредень, чтобы наутро пойти порыбалить. В семье Некрасовых он был своим человеком. Отцы Булавина и Некрасова не один год прожили вместе за Тереком, скрываясь после разинского восстания, а сами они — Кондрат и Игнат — не раз ходили в походы односумами. Тогда, при Азове, едва вместе не сложили головы в крепости-каланче… За эти несколько дней Булавин ещё больше освоился в курене Некрасова. Как батька, драл за уши дочку Игната, непоседу, покрикивал, шутя, на жену, но на рыбалку с бреднем собирался всерьёз.