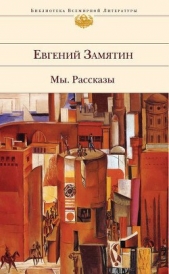Тень Ирода [Идеалисты и реалисты]
![Тень Ирода [Идеалисты и реалисты]](/uploads/posts/books/106760/106760.jpg)
Тень Ирода [Идеалисты и реалисты] читать книгу онлайн
Исторической канвой романа «Тень Ирода» («Идеалисты и реалисты») стало следственное дело Левина, из архива Тайной канцелярии. Достаточно достоверно обеспечены и другие линии романа, касающиеся царевича Алексея и его сторонников, распространение в народе учений Григория Талицкого о Петре — антихристе, об истории раскола и др. Многие из затрагиваемых в романе сюжетов долгое время были «белыми» пятнами нашей истории. Судьба героев романа дает повод для размышления об исторических судьбах русского народа, о величии путей, пройденных им.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Левин должен был сделать над собой громадное усилие, чтоб вслушаться и понять то, что говорил старик. А старик говорил:
— Пожив у них мало время, я направил стопы моя в Бар-град. И на пути бысть мне видение: сретоста ми два беса, един во образе мурина, другой же во образе жены плясавицы...
Мысль Левина опять потеряла нить рассказа. В его душе ныли растравляющие память звуки:
XI
АССАМБЛЕЯ У МЕНШИКОВА
Перед нами до сих пор проходили лица из тех сфер петровской Руси, где образы старого склада русской жизни живучими рефлексами коренились еще в умах, привычках и исторически унаследованном от предков мировоззрении и где отжившие и вырождавшиеся идеалы не могли еще вылиться в новые, хотя сколько-нибудь ясные и цельные образы. В этом обширном море старины глухо, словно волны, перекатывалось недовольство; но эти грозные волны были бессильны захлестнуть тот стойкий, могучий бот, который вел на буксире всю глухо стонущую Русь. Правда, старые идеалы были еще так же могучи, как и тот исторический бот, об который хлестались волны стонущей, недовольной Руси, но они покоились на невежестве масс, на спинах правда могучих, но все-таки на спинах в слепоте пребывающего досель народа. А образы новых идеалов у стонущей недовольством Руси еще не очерчивались в беспросветном мраке. Царевич, Евфросиния, Кикин, Вяземский, Никитушка Паломничек, некрасовец и калика перехожий Бурсак, Левин, навигатор князь Прозоровский — все это как бы нервами чувствовало, что жизнь не так бы должна идти, с ними заодно чувствовала и необозримая серая масса, чуявшая, что ее, как и заповедные рощи, «пятнать», «клеймить» скоро будут... но — «ничего не поделаешь»... Оставалось терпеть, страдать — и страдание становится целью, идеалом!
Теперь перед вами пройдут другие лица из того петровского сумрака, в котором даже не разберешь — из этих ли темных углов светится что-то более симпатичным светом, из углов, где царил страх и страдание, или с бортов того могучего бота, который слишком прямолинейно тащил к своему маяку серую массу, не думая о том, что она вся изобьется о подводные камни, шхеры, мели. А надо было тащить, надо, пора... давно пора!.. Перед нами должны пройти лица иного закала, лица, сидевшие на самом историческом боте русской жизни, уснащавшие его новыми снастями, державшие парус, цеплявшиеся за мачты, реи... У этих не те идеалы, да это и не идеалы, а осязательные реальности, за которые можно было ухватиться и подняться высоко, до верха мачты. Это — дельцы, взбиравшиеся на мачту и часто ломавшие себе шею...
Вон они почти все налицо или по крайней мере наиболее выдающиеся профили некоторых из них — вон они собрались на одной из первых ассамблей, устроенной по повелению царя. Хотя указ об ассамблеях издан Петром 26 ноября 1718 года, но самые ассамблеи существовали уже раньше закона о них, — закона, определявшего для них известные правила, часы собраний и пр. и повелевавшего, чтобы собрания назначались по очереди то у того, то у другого знатного лица.
На этот раз — ассамблея у Меншикова. Залы блестят убранством, яркостью украшений, богатым освещением и нарядами обоего пола знатных персон. Уже один говор толпы, летучие выражения и отдельные слова изобличают, что здесь доминирующая нота звучит в устах «новых людей», которые старались выказать свою европейскую «едукацию». Старое, непривычное ухо так и бьют модные слова — «баталии», «виктории», «навигации», «протекции», «кондиции», «сукцессии», «акциденции», «ассекурации» и «авантажи», «авантажи», «авантажи» без конца. Но тут же, рядом с «авантажами», старый слух ласкают допетровские звуки, допетровские возгласы и выражения: «Ах, мать моя!» — «Касатик мой!» — «Княжна Авдотьюшка». — «Ах, эта девка Марьюшка такой раритет!» [22] и т. д., и т. д. «Гварнизоны», «фендрики», «оберштер-кригскоммисары», «оберберг-гауптманы», «цухтгаузы», «шпингаузы», «артикулы», «акции» (не наши акции, конечно), «екзерциции», «салютации» — все это словно соль пересыпает деловую речь, звучит смело, авторитетно.
— Ах, эта девка Марьюшка Гаментова — какой раритет! — восклицает красивая женщина с опахалом, сидящая недалеко от царицы Екатерины Алексеевны, около которой сгруппировались придворные дамы — которая с рукоделием, которая просто с опахалом.
Восклицание это вызвано было появлением особы, которая была действительно тогдашним раритетом.
Это была фрейлина Гамильтон, блиставшая в то время при дворе и затмевавшая своей красотой знатных красавиц своего времени — двух Головкиных, княгиню Черкасскую и Измайлову. Фрейлин тогда называли «девками», попросту еще, по-старинному, и потому восклицание о «девке Марьюшке» было весьма естественно в устах придворных дам. Та из них, которая назвала Марьюшку «раритетом», была в своем роде тоже раритет и представляла собою придворное светило первой величины, хотя сомнительного блеска. Это была знаменитая Матрена Ивановна Балк или, как ее обыкновенно называли, Балкша. Она происходила из рода Монсов и была старшею сестрою Анны Монс, или Аннушки Монцовой, иноземки, дочери виноторговца, той девушки, из любви к которой Петр особенно усердно поворачивал старую Русь лицом к Западу и поворачивал так круто, что Россия доселе остается кривошейкою.
— Ах, по чести сказать — весьма прекрасна, — повторила она.
Девушка в самом деле была прелестна. В ней было что-то гордое, мраморное, и оттого самая красота ее казалась холодною. Она ступала медленно, уверенно, как бы чувствуя себя на выставке, так как на самом деле взоры присутствовавших невольно останавливались на ней чаще чем на других, а она как бы старалась отразить эти взоры своим спокойствием и сдержанностью. Отдав подлежащие решпекты кому следовало, девушка прошла в ту залу, где шли танцы.
Сухая, черствая, немножко фельдфебельская фигура хозяина, самого Данилыча, показывалась то там, то здесь, и по лицам гостей, к которым подходил светлейший, можно было видеть, что он со всеми обменивался летучими, на ходу брошенными фразами.
— А! Достойнейший Петр Павлович! Премного счастлив видеть тебя в моей избушке, — обратился он с приветом к одному гостю, живой, юркий тип которого обличал что-то еврейское. — Поправляешься?
— Нижайше благодарю вашу светлость, — был ответ гостя с еврейским обликом. — Как же мне не поправиться, когда вся российская держава, толико веков удрученная подагрическими и хирагрическими немощами, воспрянула ныне от единого слова нашего великого монарха, рекшего расслабленной России: «Возьми одр твой и ходи».
Говоривший эти высокопарные, в то время высоко стоявшие на общественной и придворной бирже фразы, был Шафиров, делец и птенец Петра. Еврейский облик говорившего свидетельствовал, что он знал цену слов на тогдашней бирже.
— Слепые видят и хромые ходят, — добавил он, — поелику их поддерживает неустанная рука вашей светлости.
Меншиков улыбнулся и заметил как бы заигрывая:
— Благодарствуйте за знатный комплимент. Только вот мы никак не можем с его величеством положить предел тому, чтоб проснувшиеся россияне меньше запускали руки в казенную мошну, а то и слепые, и хромые, а наипаче безрукие воруют...
И Меншиков, и Шафиров исчезли в толпе гостей.
Из толпы выделилась статная, ловко лавировавшая между дамами и мужчинами фигура молодого человека и направилась к императрице. Черные глаза Екатерины летучим огнем скользнули по этой статной фигуре, и быстро опустились.
Молодой человек, став против императрицы, отвесил ей глубокий поклон. Екатерина ласково улыбнулась ему и кивнула головой менее величественно, чем другим особам.
— А! Братец Вилимушка! — пропела Балкша. — Что так поздно изволил пожаловать?
— Я имел счастие исполнять личные поручения всемилостивейшей государыни, — был ответ и поклон в ту сторону.