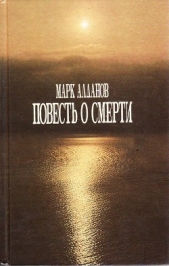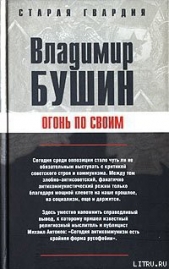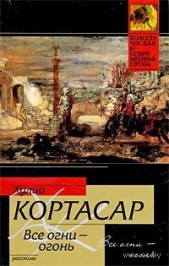Огонь и дым

Огонь и дым читать книгу онлайн
Настоящая книга составлена из этюдов, написанных в течение двух последних лет. Следуя недавно поданному с разных сторон примеру, я выпускаю эти этюды отдельным томом. Статьи, которые мы писали в изгнании, могут быть хороши или дурны, скучны или интересны. Но каждый из нас несет за них ответственность. Между тем только в форме книг он имеют шансы дойти до читателей оставшихся в России.
Число кающихся эмигрантов растет. Они говорят нам, что отношение к «бежавшим» писателям будет особенно суровое, связанное с общим предубеждением. Я этого не думаю. Великий русский писатель-эмигрант завещал нам несколько страниц, где хорошо объясняются причины «бегства» из стран, в которых попрано человеческое достоинство и нет места свободной речи. Надо ли повторять огненные слова А. И. Герцена?
АВТОР
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Лас-Каз отошел с досадой. К Казалесу подсел Ривароль, краса салонов и король собеседников.
Никто не знал толком, почему этот знаменитый писатель очутился в лагере роялистов. Единственный из всех французов, он громил революцию еще до взятия Бастилии. Тем не менее аристократы не считали его своим. Говорили, будто отец писателя содержал трактир на юге Франции. Сам Ривароль, титуловавший себя графом, ясно давал понять, что почти одинаково презирает парижских революционеров и роялистов Кобленца. Чеканные слова его передавались по всем салонам Европы; однако, никогда не было известно, говорить ли он серьезно или издевается над наивными людьми.
— Мосье де-Казалес, — сказал Ривароль, — быть может, вы отчасти правы. Но… разум слагается из истин, которые нужно высказывать, и из истин, о которых нужно молчать. Во всяком случае вы правы на 24 часа раньше, чем следует. А это гораздо хуже, чем быть вовсе не правым.
— Граф, — ответил Казалес, с некоторой насмешкой произнося титул писателя, — говорят, что после смерти Вольтера вы — самый умный человек во Франции. Так не можете ли вы сказать мне, чем все это кончится?
— Революция? — переспросил Ривароль, учтиво кланяясь собеседнику. — Я думаю, что с якобинцами справится только якобинец. Но этот якобинец будет, вероятно, французский генерал. Революция всегда кончается саблей. Если король не найдет своей армии, армия найдет своего короля.
— Короля из якобинцев?
— Короля из отставных якобинцев. Что делать? Я сам чувствую отвращение к пожарным, которые выходят из поджигателей; но именно из поджигателей выходят самые лучшие пожарные.
— Так для чего же мы ведем во Францию сто тысяч немецких солдат?
Ривароль пожал плечами.
— Для того, чтобы якобинский генерал мог себе составить громкое имя. Именно от этих немцев он и спасет наше дорогое отечество.
— Я буду еще циничнее вас, сударь, — раздраженно сказал Казалес. — Вообразите худшее: что, если мы победим? Сто тысяч немецких солдат — аргумент весьма серьезный.
— Поэтому от него не нужно отказываться. Подобный исход будет, разумеется, не худший, a лучший: тогда мы просто переменим цвет знамен якобинской армии и с ее помощью покажем немцам на дверь.
— Переменим цвет чужих знамен! Это не так легко.
— И не так трудно. Ведь все дело в кучке вожаков. Когда Нептун хотел заговорить бурю, он обращался не к волнам, а к ветрам.
— Вы заговорите якобинских вождей?
— Одних заговорим. Других повесим. А большинство, разумеется, подкупим. Слава Богу, много мерзавцев служит Великой Французской Революции. Сам покойный Мирабо ради денег был способен на что угодно… даже на хороший поступок.
— Мосье де-Ривароль, — сказал Казалес, — вас в литературе считают пессимистом. В политике вы, оказывается, крайний, хотя и своеобразный, оптимист. Немцы ли победят якобинцев, якобинцы ли победят немцев, — по вашему, и то и другое будет превосходно?
— Погибнет несколько миллионов людей. Если вы это называете оптимизмом… Но якобинцы во всяком случае сломят себе шею, чему я буду чрезвычайно рад, ибо уж очень плохо пишут по-французски эти болтливые господа. Одним словом, меня не пугают ни немецкие солдаты, ни наш добрый герцог Брауншвейгский, ни тот полоумный генерал на ов, которого, говорят, собирается прислать нам на помощь северная Семирамида, предлагающая, кстати, Европе принять православие для спасения от революционного духа… Впрочем, если вы знаете лучший способ выйти из нынешнего положения, то я немедленно к вам присоединяюсь.
Казалес вынул из кармана бумагу.
— Мне очень хочется посрамить вас, любезный оптимист и циник. В моих руках находится копия секретного документа чрезвычайной важности. Это депеша венского министра, графа Кобенцля, на которого возлагаете столь радужные надежды все вы, сторонники вмешательства Европы. Послушайте, что пишет наш верный союзник:
«Отнюдь не должно считать непосредственной целью военной операции восстановление порядка во Франции. Напротив, в наших интересах содействовать продлению раздоров и гражданской войны в этой стране. Государственное спокойствие есть великое благо и за него Франция должна нам уступить несколько своих провинций».
Ривароль улыбнулся.
— Конечно, — сказал он, — граф Кобенцль считал себя Маккиавелли, когда сочинял эту коварную бумажку. Но, право, еще неизвестно, кто кого перехитрит Поверьте, не видать Кобенцлю французских провинций. Зато не пришлось бы ему увидеть, как сто тысяч наших солдат отдадут Вене визит. Ибо не случайно существует полторы тысячи лет великая Франция. И даже среди политических деятелей должно рано или поздно отыскаться несколько умных людей. Поэтому, прежде чем топиться в серебряных водах Рейна, выпьем лучше, мосье де-Казалес, бутылку золотого рейнского вина.
19 Флореаля
Были последние дни кровавого владычества Робеспьера.
Голод, грозный спутник революций, царил над полумертвой столицей. Каждый день к воротам Консьержери подъезжали за осужденными фургоны парижского палача.
19 флореаля II года у выхода из страшной тюрьмы стояла толпа. В этот день была назначена очень популярная, казнь.
Революционный трибунал только что осудил на смерть откупщиков, столь ненавистных народу. Их обвиняли в утайке денег, в сношениях с эмигрантами и в отравлении населения: все они были миллионеры.
Радостный гул голодной толпы, ропот ненависти, брани и насмешек, приветствовал осужденных богачей.
Они шли к фургонам, не обнаруживая особого волнения: в ту пору люди умирали более или менее равнодушно.
— Хороши мои наследнички, — вполголоса сказал, поглядывая на толпу, откупщик-вивер, Папильон д'Антерод, у которого только что в пользу революционной нации было конфисковано огромное богатство.
Откупщики, в большинстве очень старые люди, были бедно одеты и имели вид изнуренный. Не желая раздражать присяжных, в надежде на снисхождение суда, они с момента ареста надели простое платье и заказывали себе на стороне нищенские обеды по сорок солей.
Четвертым в хвосте двадцати восьми осужденных шел человек, навлекший на себя особую злобу толпы. Он, по-видимому, принадлежал к высшему обществу и сохранил свой обычный костюм. Но, кроме платья, что-то еще, в лице его, в глазах, устремленных кверху, выделяло этого человека из числа других осужденных.
Когда он подходил к воротам, из толпы шагнул вперед простолюдин, в лохмотьях и изможденный.
— Кровопийца, вампир! — прокричал он хриплым голосом. — Подавись по дороге народной кровью!
Четвертый откупщик повернул голову. Выражение ужаса мелькнуло на его лице. Он на мгновение остановился, поднял руку, точно защищаясь, и быстрее зашагал к фургону…
Какой-то лавочник в толпе, узнав в лицо четвертого откупщика, с радостным недоумением сообщал о нем подробности:
— Он живет на даче, на бульваре Мадлен, недалеко от моей торговли… Сказывали, ученый человек, алхимик, что ли… Кто же мог знать, что это такой негодяй, — говорил лавочник, оправдываясь в знакомстве.
— Если ученый человек морит голодом и отравляет народ, то ему мало гильотины, — сказал простолюдин в лохмотьях, глядя вслед фургону.
— Да он, вероятно, и колдун, — добавила стоящая рядом старуха. — Все они, алхимики, колдуны.
Над суеверием старушки посмеялись: гражданке следовало бы знать, что колдунов больше нет; последнего сожгли еще при тиранах.
Лавочник старался вспомнить имя четвертого откупщика: «Вуазен… нет, Дюбуазо… Ах, да, Лавуазье»…
— Палачу было достаточно минуты, чтобы отрубить эту голову. Природе понадобится столетие, чтобы создать другую такую же.
Голос Лагранжа дрогнул…
— Судом невежд, судом разбойников на казнь отправлен великий Лавуазье…
— Я не хотел революции. Вы с Монжем ее хотели, — угрюмо ответил Лаплас.
В маленьком кабинете, где под вечер 19 флореаля сидели два знаменитых мыслителя, разговор на мгновение замолк.