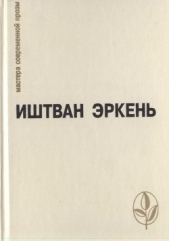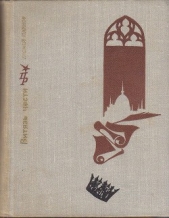Витязь с двумя мечами

Витязь с двумя мечами читать книгу онлайн
Повесть о богатыре Пале Кинижи, герое многих легенд, который жил в XV веке и боролся за независимость Венгрии.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Кш-ш, бесстыдницы! — прикрикнула старушка, смахивая на землю назойливых птиц. Потом она выпустила уток и гусей и тогда уж рассыпала по земле зерно. — Цып-цып-цып! Ути-ути-ути! Тега-тега-тега! — приглашала старушка птиц, а просить их вовсе не надо было.
Куры, утки и гуси клевали ячмень и пощипывали друг дружку, стараясь выбрать зёрнышко послаще. Тем временем тётушка Оршик дала корм свиньям и подошла к крыльцу.
— Эй, мальцы! — крикнула она. — Палко! Буйко! Вставайте! Солнышко давно припекает!
— А-а-а-а-а-а! — послышался с крыльца тягучий зевок — не зевок, а, скорее, ослиный рёв. Да только странный, глухой, словно шёл из глубокого колодца. Потому что на рассвете, когда защебетали пернатые обитатели леса, Буйко сердито сунул голову под подушку. Под этим укрытием его и мухи не кусали, и он сладко храпел недолгое время, пока не поднимал его с постели пронзительный голос тётушки Оршик.
«Самая золотая старушка на свете, — размышлял Буйко о своей хозяйке, — если б только по утрам не голосила так громко, что даже под подушкой в ушах звенит».
— Вставайте, вставайте, мальцы!
Тут подушка взлетела вверх, и на крыльце появилась всклокоченная голова. Такая взлохмаченная, что, как ни старайся, не взлохматишь сильнее. Вдобавок к тому же вся в трухе, потому что под подушкой лежала голая солома.
— А я-то здесь всего-навсего один, — объявил Буйко. — Да хоть и один, зато самый лучший!
— Где ж опять Палко? — запричитала старуха. — Ох уж и парень! Вечная забота мне с ним.
Буйко заковылял с крыльца во двор и опять зычно зевнул:
— А-а-а-а! Где ж ему быть? Ясно как день: по лесу шастает. Ночь напролёт глаз не сомкнёт. Охо-хо! Самое лучшее дело на свете — спать, да вот помеха: больно ночь коротка.
— Это для тебя-то ночь коротка? Да ты ведь с курами и петухами укладываешься.
— Эх, тётушка Оршик, тётушка Оршик! Знаешь ли ты, что в тех краях, откуда я родом, там, где горы вздымаются до самых небес, в этот час спится крепче всего? В моём благодатном родимом краю трижды пропоют петухи, прежде чем солнышко позолотит вершины высоких гор. А здесь — здесь петух один раз прокричит, солнце уж припекает брюхо бедного Буйко.
Подул ветерок, и тётушка Оршик поспешила в кладовую за бобами. Она пересыпала их из корзины в корзину, а ветер тем временем подхватил зерно и усыпал землю да ноги Буйко. Буйко и не заметил: он рассказывал о местах, в которых родился и откуда ему пришлось бежать, спасаясь от свирепых владетельных князей. Ну и деспоты, ну и тираны! Не было житья там бедному парню, коли не хотелось служить ему в их разбойничьем войске.
— Ладно, ладно, замолчи наконец, король лежебок.
— Король лежебок? — подхватил Буйко. — Нет, нет, это не я. А вот лежебока короля — это я. Известно ли тебе, тётушка Оршик, как благородно ремесло лежебоки? Делать ничего не надо, знай себе спи, а тебя, лежебоку, отборными яствами потчуют да в самом роскошном зале королевского дворца укладывают.
— Только тебя в королевском дворце и не хватает… Эх ты, куль с мукой! — И тётушка Оршик беззлобно огрела увальня по спине. — Гляди-кось, весь дымишь от муки. Ну, ступай, Буйко, да за работу скорёхонько принимайся. Сейчас тут будут с зерном от хозяина замка.
Поплёлся Буйко на мельницу с надутым лицом.
— Только одно и слышишь: «Ступай, Буйко… Поворачивайся, Буйко». Вот возьму рассержусь — и поминайте как звали: вернусь в свои родимые края. Слыхал я от людей, будто король Матьяш [1] сокрушил наших буйных господ!
Грозиться-то парень грозился, а толку что? Ведь ни за какие сокровища в мире не согласился бы Буйко покинуть старую мельницу, а главное, молодого мельника — Пала Кинижи.
Ну вот, едва убрался со двора Буйко, как за спиной у тётушки Оршик кто-то страшным голосом зарычал: «Урр-урр!»
Повернулась она, не помня себя от страха. А там Пал стоит, и на плече у него медведь горой вздымается. Выронила старушка из рук лукошко, вскрикнула, сердечная, не своим голосом и схватилась рукой за сердце.
— А-ай, напугал! Как напугал свою старую кормилицу!
А Пал захохотал, да так громко, что далеко в лесу, словно гром, прокатилось эхо. Вот каким был он весёлым и сильным и какое доброе сердце билось у него в груди! Сбросил Пал медведя на землю и наклонился к старухе.
— Не сердись, тётушка Оршик! В следующий раз я принесу тебе певчую птичку либо лукошко спелой ежевики.
Услыхав, как смеётся Пал, приплёлся с мельницы Буйко, увидел медвежью тушу и всплеснул руками.
— Ух ты, ух! Вот это медведище! Откуда ты его приволок, хозяин мой Палко? Да это же сам Йонаш — гроза пастухов… Как ты его осилил? — Буйко подошёл ближе и, хоть рука его малость дрожала, погладил по шерсти мохнатого зверя.
А Пал за спиной у Буйко возьми да шевельни носком сапога тушу, а потом ка-ак заворчит. Буйко вскрикнул, прыгнул и одним махом взлетел на куриный насест… Но сразу же, устыдившись собственной трусости, медленно, с опаской спустился вниз.
— Скажи правду, косолапый, ведь ты мёртвый? Ведь ты пошутил, верно? Сам посуди, на что это похоже: быть живым и пугать бедного Буйко?!
Когда же он убедился, что медведь и в самом деле мёртв, стал клянчить у Пала:
— Отдай мне, хозяин мой Палко, медведя. Обещай, что отдашь. Ты погляди, какой у него язык красный.
— Зачем тебе медведь, Буйко?
— А я себе из шкуры подстилку сделаю. Вот уж мягко спать будет.
— Так и быть, медведь твой! — согласился Пал. — Бери и успокойся.
Ухватил Буйко зверя, а с места сдвинуть не может. Пришлось за дело взяться Палу; поднял он медведя и понёс в сарай — пусть до вечера полежит, а потом они его освежуют. Буйко держал медведя за хвост, а был он малый с придурью и оттого в своём глупом веселье сложил с ходу песню и тут же её пропел:
Подняли парни тушу и на двух крепких верёвках втащили под потолок. Потом Буйко пошёл на мельницу смазать вал к началу работы. А Пал ненадолго вернулся к тётушке Оршик. Старушка держала на коленях корзину, перебирала бобы и тихонько всхлипывала.
— О чём закручинилась, тётушка Оршик? Может, разобиделась на меня за медведя?
— Знаю, не обидишь ты меня, голубчик. Вспомнилось мне, что сегодня ровнёхонько двадцать лет, как напали на нас окаянные турки.
— Расскажи, тётушка Оршик, как это было! — попросил Пал.
— Эх, Пал, большое дитя, сколько раз ты об этом слышал!..
— Теперь в последний… Была, значит, ночь…
— Ну, слушай, — вздохнула старуха. — Была ночь, глухая да тёмная, хоть на куски ножом её режь. Доброго отца твоего не было дома. Ушёл он за горы траву искать — сильно ты тогда расхворался. Все мы — твоя матушка, сестрица да я — сидели у твоего изголовья. Светильник наш давно погас, а мы все сидим во тьме, не спим. Вдруг видим: за окнами багровое зарево. Выбежали во двор — вся деревня огнём полыхает. Плач стоит над деревней, крики, стоны, слышится дробный стук копыт. Конский топот всё ближе, ближе. И вон оттуда, где дорога спотыкается о пригорок, вылетают турецкие спаги [3] с факелами в руках… Мы со всех ног бросились в дом.
— Будь я тогда постарше, тётушка Оршик, всех бы злодеев язычников своими руками уложил.
— Мал ты был ещё, голубчик. Так мал, что на ладони моей умещался… Будто снежная лавина с горы, неслись на нас окаянные турки. А дверь мы в переполохе забыли запереть, и ворвались они, нехристи, в дом. Сразу накинулись на мать и сестрицу. А я хвать тебя на руки да шмыгнула в окно. И в лес! Ноги мои в ту пору бегали куда быстрей, чем сейчас. Ума не приложу, откуда взялись у меня и сила, и ловкость, чтоб залезть с тобой на высоченный дуб. Знаешь ведь дуб, что стоит на том месте, где сливаются два горных ручья. На этом-то дубе просидели мы с тобой до самого утра. Боязно было спуститься с него: дитя на руках, а кругом зверьё дикое шныряет да воет. Вот и сидела на дубе, ждала, пока рассветёт. Потом — чу! — кричит твой отец, и вышли мы с тобою из леса. Труп твоей матери лежал на дороге. А сестрицу, что была собой так хороша, как ты силён, никогда мы больше не видели.