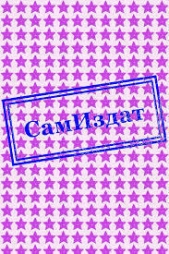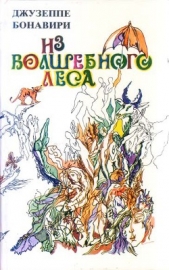Табак

Табак читать книгу онлайн
Роман «Табак», неоднократно издававшийся на русском языке, вошел в золотой фонд современной болгарской прозы. Глубоко социальное эпическое произведение представляет панораму общественной жизни в Болгарии на протяжении пятнадцати лет – с начала 30-х годов до конца второй мировой войны. Автор с большим мастерством изображает судьбы людей, так или иначе связанных с табачной фирмой «Никотиана».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Жнивье кончилось, и начался пологий спуск к оврагу. Овраг был мелкий, широкий, заваленный песком и камнями, принесенными сюда с равнины потоками проливных дождей. К горам он сужался, а склоны его становились выше и круче. Теперь Ирина и ее проводник находились как бы в естественном окопе, который предохранял их от пуль, а шум боя казался здесь замирающим и глухим, словно доносился издалека.
– Долго еще? – спросила Ирина.
Туфли ее были полны песка и колючек.
– Да вот они! – ответил ее проводник.
За размытыми корнями высохшего дерева – оливы или смоковницы, – там, где в ливень вода нагромоздила большую кучу камней, русло оврага поворачивало. Миновав поворот, Ирина увидела десяток людей, лежащих на песке. Луна заливала их печальным светом.
Значит, это и был перевязочный пункт партизан! Сердце Ирины сжалось. Некоторые раненые лежали неподвижно, как трупы, другие сидели, прислонившись спиной к крутому склону оврага, третьи сами себя перевязывали или помогали товарищам. Один легкораненый молодой человек с забинтованной головой, замещая убитого санитара, сновал между остальными и подносил им в жестяной кружке воду, принесенную в ведре из ближней речки, обмелевшей и грязной. На песке валялись две санитарные сумки, из которых были вынуты последние бинты. Некоторые раненые порвали свои рубашки, пустив их на перевязку. Пахло йодоформом, устаревшим лекарством, которое все еще входило в инвентарь полковых амбулаторий, – партизаны, вероятно, отобрали его у какой-то разбитой воинской или жандармской части. Убитый санитар, должно быть, имел элементарные познания в хирургии. На полотенце (которое санитар, очевидно, считал чистым) лежали его инструменты – зонд, ножницы, гемостатические пинцеты. Рядом стояла эмалированная миска с желтым раствором риванола, в котором он дезинфицировал инструменты.
Сердце у Ирины сжалось еще сильнее. Эта санитарная нищета – облупленная миска с риванолом, сложенные на грязной тряпке инструменты, которыми санитар, видимо, все же намерен был пользоваться, – вызывала острую жалость. Что-то зловещее и тоскливое виделось ей в раненых мужчинах, обреченных умереть па этой чужой земле, залитой безнадежным и печальным лунным светом. Ирине стало страшно.
– Где командир? – спросил провожатый Ирины.
Раненый с забинтованной головой не ответил, только показал рукой на что-то темнеющее на песке. Ирина направилась туда. Лунный свет упал па лицо Динко. И тогда Ирина его узнала.
В первое мгновение она почувствовала слабость, ноги у нее подкосились, трудно стало стоять; потом она начала дрожать, но не от смущения, не от страха, не от радости, что увидела Динко, который мог спасти жизнь фон Гайера и помочь им выбраться отсюда. Ее бросило в дрожь не от жалости к нему, не от того, что она была потрясена, увидев его, смертельно раненного, в этой зловещей дыре. Она дрожала от какого-то другого, невыразимого и глубокого волнения, которое вызвали в пей воспоминания о прошлом, о тех теплых осенних днях, когда она возвращалась домой с виноградника с корзиной винограда, а вечером помогала отцу снимать низки табака, которые зимой шли на продажу «Никотиане». Это волнение в ней вызвали воспоминания о ясных спокойных годах ее жизни до встречи с Борисом, до того, как голодные стачечники убили камнями ее отца, до того, как она стала любовницей, а потом законной женой злодея, чей труп сейчас перевозили, как докучный груз, из Салоник в Каваллу. Это волнение вызывало воспоминание о чистоте тех дней, которые она провела в маленькой, выбеленной известкой комнатке с открытым окном, затененным листвой старого орехового дерева, – комнатке, в которой слышался неумолчный шум реки; тех дней, исчезнувших как сон, и того душевного покоя, память о котором всегда рождала в ее сердце и горечь и сладостное томление. Потому что Динко прожил в ее семье десять лет и был свидетелем тех ясных, спокойных и чистых дней, и, как ей, ему были знакомы и выбеленная комнатка, и тенистое ореховое дерево, и шум реки.
Но как несправедливо и холодно она к нему относилась тогда! Ее раздражали его большие, обветренные па полевых работах руки, грубая суконная одежда, царвули, постоянное недовольство бунтующего батрака, которое вспыхивало в его глазах всякий раз, когда он разговаривал с ее отцом. Ее раздражал мрачный пламень его любви, глубокой, как страдание, и горячей, как земля красных песчаных холмов, на которых рос табак. И все это она вдруг вспомнила сейчас, глядя ему в лицо, облитое холодным потом, искаженное гримасой нестерпимой боля. Но это уже не было лицо угнетенного батрака. Даже теперь, искаженное болью, оно было властным, мужественным и красивым.
Мысль о том, что она должна помочь раненому, заставила ее прийти в себя, вернула ей хладнокровие, с которым она приучила себя принимать все то, что ей несла жизнь.
– Значит, это ты!.. – произнесла она, став на колени и склонившись над Динко. – Мне говорили, что ты ушел в леса, и это меня не удивило. Ты меня слышишь? Открой глаза!
Динко медленно поднял веки, но не узнал ее, потому что лицо ее было в тени. Он только хрипло проговорил:
– Кто это?… Что вы хотите?… Без приказа Шишко не отступать пи на шаг!
Человек, который привел Ирину, сказал:
– Это докторша, товарищ командир! Мы ее задержали в машине на шоссе.
Раненый покачал головой, словно говоря, что помощь ему уже не нужна. Глаза его опять открылись – холодные, затуманенные и безразличные ко всему, что не имело отношения к бою.
– Ты в самом деле меня не узнаешь? – горестно произнесла Ирина, положив руку на его холодный мокрый лоб. – Тебе так плохо? Как это страшно!
Потом она крикнула своему провожатому:
– Подай мне санитарные сумки! И эту ужасную миску с риванолом!
– Что? – спросил партизан.
– Миску с желтым раствором. Мне надо вымыть руки.
Она быстро осмотрела сумки и нашла в одной из них шприц и ампулы с камфарой.
– Это хорошо! – сказала она. – Но от марли и бинтов не осталось и следа! И это все ваше санитарное оборудование?
– Все, – хмуро ответил провожатый. Потом вспомнил, что Мичкин приказал ему немедленно вернуться, и тихо добавил: – Докторша, я ухожу. Если что нужно, этот парень тебе поможет.
Он указал па бойца с забинтованной головой, который все слышал, но говорить не мог и только стоял рядом, готовый выполнять указания Ирины.
Она подняла рубаху Динко и тотчас же опустила ее, похолодев от ужаса.
– Так! – произнесла она, словно говоря сама с собой. – Живот у тебя, как решето. Даже самый искусный хирург не в силах тебя спасти… Но открой же наконец глаза!.. Так!.. Ты все еще меня не узнаешь?
Она говорила нервно, задыхаясь, и в этом беспомощном потоке слов находила выход своей страшной душевной слабости, которая грозила вызвать у нее истерические слезы. Однако она поборола эту слабость, свойственную женщинам, – нервы у нее были здоровые.
Динко открыл глаза, но они и теперь были мутны, холодны, равнодушны – глаза человека, сознающего, что он в объятиях смерти.
– Ты все еще не узнаешь меня! – простонала Ирина. Потом повернулась к человеку с забинтованной головой: – Подай мне шприц и ампулы… Его жизнь можно продлить еще на несколько минут… Так! А потом я посмотрю тебя и остальных.
Пока она наполняла шприц камфарой, она услышала шорох и, подняв глаза, увидела, что Динко, неожиданно сделав усилие, приподнялся на локтях и пристально смотрит на нее. Это был изумленный взгляд человека, который видит далекое и сладостное видение. Но усилие истощило его, и, не проронив ни слова, он с глухим стоном рухнул на землю.
– Значит, ты узнал меня! – Она засмеялась нервно и как-то механически, а из глаз ее внезапно потекли слезы. – Не шевелись!.. Не двигайся!.. Эта игла грязная… Подай другую, братец… Быстро!..
Человек с забинтованной головой вынул из металлической коробки другую иглу, а Ирина, вложив ее в шприц, осторожно втянула в него всю камфару до последней капли.
– В эту ночь тут творится что-то страшное… Дай мне руку и не обращай на меня внимания. – Она смахнула ладонью слезы, которые все еще текли по ее щекам. – Укол поддержит тебя. Господи, какие мускулы… Да, в гимназии на турнике и брусьях ты творил чудеса… И по математике и физике ты был первым, но латынь тебе не давалась… Ты помнишь, а?…