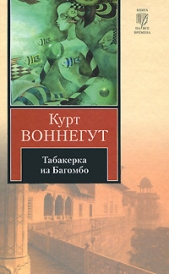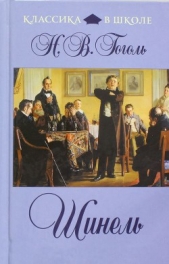Изумленный капитан

Изумленный капитан читать книгу онлайн
Созданный Петром I флот переживает после его смерти тяжелые времена. Мичман Возницын мечтает оставить службу и зажить в своем поместье тихо и спокойно со своей любимой. Но она – крепостная, он на службе, жизнь никак не складывается. А еще добавляется предательство, надуманное обвинение, «Слово и Дело» государевы.
В чрезвычайно ярко описанной обстановке петровской и послепетровской эпохе, в весьма точно переданных нюансах того времени и происходит развитие этого интереснейшего исторического романа.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Господи, жива ли? Ведь, столько лет прошло!.. – мелькнуло в голове.
Софья перебежала двор, вбежала по ступенькам (все те же истертые три ступеньки!) и очутилась в полутемном сводчатом коридоре.
Здесь было прохладно и пахло по-всегдашнему чем-то кислым. Со свету глаза плохо различали предметы, но Софья шла по привычке. Она знала: первая келья – матери Анфисы, будильщицы, вторая – толстой Досифеи, хлебенной старицы, а третья – до боли знакомая, родная…
Софья даже не постучала и не сказала обычного «во имя отца», а просто вбежала в келью.
У окна, прищурив один глаз (вдевала нитку в иголку), стояла мать Серафима.
Она обернулась на стук.
Софья бросилась к старушке на шею.
– Господи, Софьюшка, доченька моя! – лепетала, всхлипывая, мать Серафима, роняя на узкий подоконник иголку…
– Ешь, Софьюшка, ешь, подкрепляйся на дорогу! Дорога-то не близкий свет – в Астрахань! Это тебе не в Истру съездить, – потчевала мать Серафима.
– Спасибо, матушка: я – сыта! – отвечала Софья.
– Да съешь еще сырничков, или оладьев, – пододвигала она к Софье тарелки. – А, может, рыжичков еще отведаешь, а?
– Спасибо, не могу больше! Наелась, как бывало на Вознесенье: во как!
Софья, улыбаясь, провела пальцем по горлу.
– Это все ваши иноземные наряды не дают человеку и поесть, как следует. Кабы надела ты просторный летник или опашень, ты бы патриарший стол в самый Успеньев день высидела б! А то стиснули живот и грудь в этот проклятый китовый ус! Тут, я чай, слово трудно молвить, не то что по-настоящему поесть… Утешь старуху, – не унималась мать Серафима: – распусти шнуровку да поешь!.. Мы, ведь, тут все свои, не обессудим, – уговаривала она.
Софья расхохоталась.
– Да разве я мало съела? Право слово, не хочется! Сыта, сыта взаправду, – целуя мать Серафиму, отговаривалась Софья.
– Погоди! – отбивалась старуха. – Ну тогда съешь-ко хоть киселю клюковного. Кисель не бог весть какая еда! А ты, помнится, всегда его жаловала…
– Киселю еще съем, – сдалась Софья.
Мать Серафима повеселела.
– Маремьяна Исаевна, дайте вам еще положу, – потчевала гостеприимная хозяйка маленькую, сухонькую старушку, которую она пригласила к обеду, зная, как Софья любит Маремьяну Исаевну: ведь, старуха знавала софьину мать!
– Благодарствую. И где это вы, мать Серафима, всего раздобыли? – полюбопытствовала Маремьяна Исаевна.
– Досифея узнала, что Софьюшка приехала – уделила от своих щедрот. Ведь, она любила ее, эту баловницу, – говорила мать Серафима, с любовью глядя на свою воспитанницу.
– Помнишь, Маремьяна Исаевна, какая Софьюшка была, как ее привезли от графа Шереметьева? Черненькая, маленькая… А теперь, слава те, господи, вот какая!.. Только одна беда – непоседа! В детстве была и теперь такой осталась. Двадцать годов не прожила, а уж и в Питербурх и в Астрахань. Другая бы ревмя-ревела, что от родных мест уезжает, а она – рада-радехонька. Порхает ровно ветерок! Я никак в толк не возьму, какая радость в этих переездах? Только кости изломаешь. Поезжай, как говорится, хоть куда, – везде доля худа!..
– Матушка, вы не рассказали, что ж без меня в обители нового случилось? – перебила Софья, которой разговор, видимо, был не по вкусу.
– А что? Ничего. День прожили – и слава создателю. Вот как ты уехала, месяц шили балдахин для царского места. Одиннадцать стариц, никак, работали. Получали на день по той алтына по две деньги. Потом в другое лето крыши над кельями, малость, латали. Да лестницу к церкви Екатерины, что на вратех, отвие с улицы сделали, видела?
– А зачем это?
– Чтобы никто из мирян зря не мог претензии сыскать итти в монастырь, а то ходили, кто попало. У нас ничего, а у «Трубы», у крылошанок гульбище во втором часу пополуночи бывало… У нас – что? Вот лучше расскажи, как живешь, как твой ученик, как хозяева – капитан, или кто там…
– Коленька уже вырос – ему седьмой год пошел. Осенью за букварь сядет. Капитанша сердитая – вроде как келарша наша, мать Асклиада, – понизив голос, сказала Софья. – А Данила Захарович сам-то капитан Мишуков – такой ласковый да хороший! Его покойный царь Петр любил. Его все любят. Мы по нем так соскучились, пока он один в Астрахани жил. Вот скоро увидим его! – оживилась Софья.
В это время в дверь постучали.
– Во имя отца…
– Аминь! – ответила мать Серафима.
Все обернулись к двери.
На пороге стояла послушница келарши.
– Мать Асклиада велела вам, сестрица, притти к ней, – кланяясь Софье, сказала послушница и вышла из кельи.
Софья выскочила из-за стола, оправляя платье.
– Возьми окройся хоть платком, – суетилась мать Серафима: – А то вишь выголили: руки до самых плеч и шею! Срамота одна!
Когда Софья убежала, старухи минуту-другую сидели молча.
Маремьяна Исаевна жевала беззубыми челюстями пирог, а мать Серафима, в раздумьи, смотрела в низенькое окно. Из него в прохладу кельи лилось тепло июньского солнечного дня.
– Быстра! Огонь, а не девка! И как-то ей жизнь сложится? – мечтательно сказала мать Серафима, катая по скатерти хлебный шарик.
Маремьяна Исаевна не спеша дожевала пирог, утерла губы концом позеленевшего от старости головного платка, опущенного на шею и сказала:
– Жизнь человеческая, как тень птицы во время полета…
Снова помолчали.
Каждая старуха думала о своей прожитой жизни.
– А как ее мать в эти годы была? – спросила монахиня у Маремьяны Исаевны.
– Такая же стрекоза. Весь свет ей был мал, все носилась… И без мужа в сорок семь годов Софью родила, – заключила Маремьяна Исаевна, печально улыбаясь.
Разговор оборвался: в келью вбежала Софья. Она держала конверт, запечатанный сургучной печатью.
– Что это она тебе дала, Софьюшка? – спросила мать Серафима.
– Велела передать в Астрахани управителю монастырскими вотчинами.
– Ишь выдумала: девичье ли это дело мужчин разыскивать? Привыкла сама с мужиками день-деньской быть, так думает и всякому пристойно!.. Управляющего я знаю. Он тут был – вином у нас торговал. Жох! Глаза у него так по крылошанкам и бегали…
IV
В канцелярии астраханской конторы над портом было душно, как в бане. Единственное окно стояло открыто настежь, но и это не спасало от духоты. Через окно в канцелярию летели только тучи песку.
Песком было занесено все.
Возницын сидел в своем углу, за шкапам с делами.
Он остался в канцелярии самым старшим: все начальство, не дожидаясь, когда – за час до полудня – будет бить колокол на обед, разошлось по домам. И, кроме Возницына, томилась в канцелярской духоте только мелкота: канцелярист и два копииста. Возницын, с минуты на минуту ожидая колокола, лениво просматривал бумаги, присланные вчера Адмиралтейств-Коллегией из далекого Санкт-Питербурха.
В кратких промемориях ничего интересного не было – шло обычное: о побеге из службы пильного дела ученика, о строении на корабельных солдат кафтанов из васильковых и красных сукон за неимением зеленых и о том, что провиант должен отправляться на суда в бочках, а не в рогожах, «поелику от рогож более гниет, и в кораблях великий дух».
И все в таком же роде.
Только на последней, более пространной промемории Возницын задержался.
«Коллегиею слушан из Астрахани капитана фон-Вердена рапорт, что содержавшийся под арестом каторжный невольник Егор Седельников от чахотки пятнадцатого сего июня умре; коллегиею приказали: велеть оного каторжного невольника Седельникова тело его хотя и погребено, выкопать из земли и за оную продерзость повесить на висилице, за ноги, чтоб впредь и другие на то смотря таких продерзостей чинить остерегались».
Возницын на секунду представил себе Егора, каким он видел его в последний раз, когда Седельников беседовал с Афанасием.