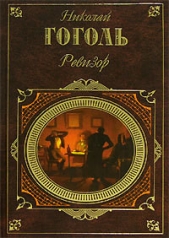Совесть. Гоголь
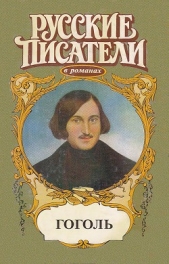
Совесть. Гоголь читать книгу онлайн
Более ста лет литературоведы не могут дать полную и точную характеристику личности и творчества великого русского художника снова Н. В. Гоголя.
Роман ярославского писателя Валерия Есенкова во многом восполняет этот пробел, убедительно рисуя духовный мир одного из самых загадочных наших классиков.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Граф возразил с убеждением, покачав головой:
— Полно, мой друг, всякое дело окончательно погубит меня.
Ужаснувшись смыслу этого слова, в то же время улавливая невольно его смутную правду, вновь относя это слово к себе, он продолжал уговаривать, поуже неохотно, как будто с трудом:
— Без доброго дела, близкого сердцу, непременно погибнешь, почти безвозвратно, даже с добрым делом наша душа не всегда остаётся совершенно живой. Нет, подите вы лучше служить. И я бы тоже служил, даже хорошо бы под начало у вас, да мне, по несчастью, одно художество и дано на служенье.
Глаза графа словно бы начинали блестеть, голос выдавал уже неподдельное чувство, было видно, что зацепилась любимая мысль:
— Слава Богу, мне есть на что жить. Не будь у меня ничего, кроме носильного платья, разумеется, пришлось бы взяться за любую работу и на душу брать окаянство. Однако я имею возможность отклонить от себя те пороки, которые неизбежны в любом земном деле, и я приму решительно все мои средства, лишь бы душу уберечь от растления в деле земном.
Соглашаясь с мыслью о том, что во все земные дела незримо проползают пороки, ощущая, что в самом главнейшем граф совершенно не прав, тронутый его искренним тоном, он спохватился и громко сказал:
— Помоги вам Господь!
Граф тотчас поднялся, выпустив на волю полы шлафрока, так что они комом, на лету расправляясь, упали к ногам.
— Вы, надеюсь, выйдете к чаю?
Николай Васильевич весьма неопределённо качнул головой, и граф вышел бодрым воинским повелительным шагом, затворив размашисто дверь.
Поворотившись в кресле, он долго глядел ему вслед, и брели безнадёжно, безжалостно мысли: «Вот человек, у нас замечательный, способный свершить довольно много добра, когда многие прочие так способны на зло, за все протёкшие годы, лет уже шесть или семь, так и не поверил ни на маковое зерно, что мера нашей души — наши дела, тёплого голоса твоего не заслышал, не ожил хотя бы на миг, какие тут «Мёртвые души» тебе...»
Горечью жгло, сама жизнь становилась противна, исчезало желание двигаться, думать, глядеть, испытывать счастье, радость, печаль, ненавидеть или любить. Он весь обмер, навалившись боком на жёсткую ручку, глядя безмысленно в пол. Оставался он в твёрдой памяти, однако чувства его замолчали, точно угасли совсем. Одни беспорядочные видения смутно промелькивали в застылом мозгу, но он не разбирал их тайного смысла, не желал разбирать и едва-едва их различал. Видения чем-то угрожали ему, так что он обмирал всё поспешней, глубже, пока вслед за чувствами не растаяли и эти видения, пока не истощились в нём самые признаки жизни, так что он всё ещё был, но его как будто не стало.
И впервые за последние тяжёлые дни, месяцы, годы он ощутил облегчение. Ни забот, ни тревог, ни сомнений, ни тяжкой ответственности перед всеми людьми на земле, перед соотечественниками, перед Русью, перед призваньем своим, ни острейших ударов язвительной совести.
Больше не было ничего и, должно быть, никогда не будет.
Всё так просто, так тихо, темно.
В сенях завозился Семён [20], но и этих явственных звуков он не слыхал, погрузившись в своё онемение, и сами собой прикрылись глаза, и в немой темноте разлилась пустота, как будто своим легчайшим крылом укрывшая его от всего, что ни есть на земле. Ничего иного, казалось, и не было нужно ему, одно онемение, одна пустота.
Тут что-то грохнуло за стеной, и грохот пребольно ударил его. Он вздрогнул, оборотился, приподнявшись в испуге, ударив ручкой кресла по рёбрам, торчавшим наружу, не понимая, где он и что с ним стряслось.
Семён чертыхнулся негромко и чем-то тихо, осторожно заскрёб.
С этими звуками чертыханья, скребков жизнь воротилась к нему. Он почувствовал сожаление: так хорошо, чудесно, так благостно, славно ничего не снилось ему в пустоте, а под стуки и шорохи этой возни придётся вновь ждать, готовиться, опасаться, слушать, видеть, осознавать, прятаться, колебаться, действовать и страдать, страдать без конца. Первой явилась ужасная мысль: «Поэма окончена, шаг остался последний...»
А всё не так, всё не то ему слышалось в этом творенье.
И повсюду было не так и не то.
Дрожали заледенелые ноги, которые вовсе сделались точно лёд. Поднявшись с трудом, он скрылся за ширмы, едва волочась. За ширмами, в тесноте, он сел на кровать, болезненно морщась, стянул меховые толстые сапоги, втиснул непослушные ноги в сухие шерстяные носки, связанные в четыре толстые нитки, и вновь с трудом натянул сапоги. От этого ногам не стало теплее. Он знал, что немного согреет ноги только движение, но после блаженного столбняка, в который он только что был погружен и который так славно отринул его от земного, двигаться было противно, даже мысль о движении была тяжела. Хотелось застыть, уйти от всего, и он сидел, притиснув обутые ноги друг к дружке, сжавшись в комок. Думать тоже было до нестерпимости больно, потому что он непрерывно думал и думал о том, что судьба «Мёртвых душ» решена безвозвратно, и мысль о необходимости, как он себя приучил, непременно исполнить это неисполнимое решение доводила до смертного ужаса, он и старался не думать о злосчастной поэме своей, а как бы мог он не думать?
И он думал, что не справился со своим назначеньем, что поэма такой не получилась, как хотелось ему, он не справился, Гоголь, это ничтожество, из породы, видно, пустейших. Как же осознать однажды ничтожность свою и по-прежнему тянуть себе самому ненужную жизнь? И невозможно стало тянуть. И невозможно от неё отвязаться. Гадко, так это гадко, что вот...
Он усилием воли попытался перевести изнеможённый разум хотя бы на что иное, раз уж невозможно вовсе его заглушить, однако воля уже надломилась мученьями этого тяжкого месяца, испытанный способ отворачиваться от мыслей, неприятных ему, действовал плохо или не действовал совсем, он позабыл, чем были заняты его мысли перед вторжением графа, и только сумел слабо припомнить, что было это чем-то приятным, бесконечно далёким от его несчастной поэмы, но милые призраки не возвращались к нему.
В голову влезло ни с того ни с сего, что одиннадцатое февраля продолжало ползти, однако для какой надобности это известие годилось ему?
Ещё проползло, что римский карнавал отшумел дней двадцать назад, однако с какой же стати всунулся тут карнавал?
Он припомнил, что в вечном городе Риме тихо, зелено, пусто, что на площади Барберини безносые, покрытые тёмным мхом тритоны бросают в самое небо искристую воду, и струи, обессилев, с меланхолическим ропотом падают вниз, что на виа Феличе, разнежась на солнце, трубным звуком ревёт длинноухий осёл, запряжённый в тележку, нагруженную до самого верха свежими овощами, которыми целый день торгует у подъезда напротив живописно взъерошенный зеленщик, тоже приятель старого пьяницы Челли.
Ему бы не надо было думать о вечном городе Риме: все последние дни думалось о нём с сожаленьем, с тоской. Неразумно затрагивать то, что сделалось для тебя невозможным.
Однако ему не удавалось справиться с вечным городом Римом. Он видел свой дом на Счастливой солнечной улочке, где мог работать, много работать, мог надеяться, верить, безумно любить... свою... дорогую... поэму... Поэма всегда была с ним. Поэма никуда не отпускала его от себя. Уже давно слились воедино он и поэма, поэма и он.
Но главнейшее было, разумеется, то, что он в вечном городе Риме работал, как с той поры не приходилось работать нигде. Этой работой своей он мечтал проверить себя. Был он достаточно молод и твёрд и верил до святости, что выдержит испытание и станет сильнее, лишь узнает решительно всё о себе, до последней пылинки, чтобы воспитать себя достойным своей поэмы и благодаря своему воспитанию успешно и скоро окончить её.
Тогда и всякий человек превратился в судью для него, от каждого одну только истину желал он знать о себе.
Незнакомец в тульском трактире показался ему простым, бесхитростным и правдивым, то есть именно тем человеком, который ни при каких обстоятельствах не скрывает своих подлинных мыслей и чувств.