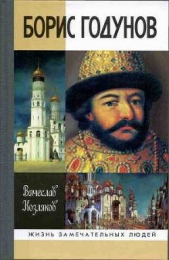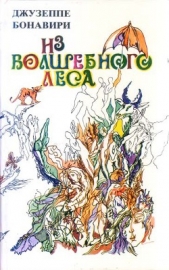Борис Годунов

Борис Годунов читать книгу онлайн
Высокохудожественное произведение эпохального характера рассказывает о времени правления Бориса Годунова (1598–1605), глубоко раскрывает перед читателями психологические образы представленных героев. Подробно описаны быт, нравы русского народа начала XVII века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И пугался, и плакал Иов в храме потому, что одно знал — не должно больше быть междуцарствию.
Услышал как-то шепот в ризнице, когда одевали его к выходу: «Недолго-то осталось Иову красоваться». — «Да, придут Романовы, а он у них не в чести». Слабый шепот, но все же разобрал Иов: «Гермоген Романовым ближе». — «Это так…»
Обернулся патриарх. За спиной стояли самые близкие. Подумал: «Ежели эти шепчутся, что другие говорят?»
Иов, ткнув посохом в каменные плиты, двинулся из храма. На паперти патриарх остановился, обвел взглядом московский люд, благословил широким крестом и, уже ни на кого не поднимая взор, пошел по ступеням.
Крестный ход двинулся в Новодевичий монастырь.
У Чертольских ворот людно, теснота. Напирает народ, но где там — узка улица. Харчевни, кузни, мучные лавки, блинные — углы корявые выставили и стоят, словно человек, растопыривший локти на перекрестке. Не пробиться.
Иов с иерархами, с боярами, с людьми знатными прошли вперед по свободе, а тут толпа поднаперла, и заколдобило. Того и гляди, топтать друг друга начнут в тесноте.
Вон мужик елозит лаптями по наледи: прижали к стене, и ему ни туда ни сюда нет хода.
— Братцы, братцы! — кричит мужик, а лицо уже синее.
Здесь баба с дитем. Ребеночек выдирается из тряпок, разинул рот в крике. Бабу притиснули — не вырвется.
— Ратуйте, люди! — вопит. — Ратуйте!
— Ах ты, мать честная! — выдохнул Арсений Дятел. — Подавят народ.
Рядом с Арсением Игнашка Дубок и стрелец с серьгой в ухе. Вышли из переулка, глянули, а тут вон что творится.
— Непременно подавят. Куда пристава смотрели? Развели бы народ за домами.
Такое случалось на Москве: хлынет толпа, задние навалятся — не удержать. И рад бы остановиться человек, да он и упирается изо всех сил, а его жмут в спину те, кто и не видит, что творится впереди. Праздники обращались в великое горе. Улицы узки, кривы — один поскользнется, упадет поперек хода, и через него повалится десяток. Страшно. Ребра ломали, глаза выдавливали.
— Ратуйте, люди, ратуйте!
Но в людском море у Чертольских ворот вроде бы посвободнее стало. Народ полегче пошел.
Вдруг Арсений услышал со стороны:
— Эх, дядя… Надо бы конька разогнать да и пустить с саночками через улицу. Вот уж станут намертво.
Арсений осторожно скосил глаза.
У облупленной стены лабаза двое — в легоньких полушубочках, подвязаны кушаками. За ними впряженный в сани конек. У Арсения екнуло в груди: «Ах, ты… Вот кто здесь старается». За поясом у Арсения нож. Но стрелец тут же решил: «Ножом нельзя. Крик да шум ни к чему. Завалить обоих молча в санки да и свезти в полк. Там, с ребятами, разберемся». Глянул на Игнашку. Тот поймал взгляд и насторожился. Арсений глазами дал понять: молчи-де. Потихоньку, полегоньку отступил назад. Дубок за ним. И стрелец с серьгой в ухе, недоброе почувствовав, двинулся за ними.
Но, видать, сплоховал Арсений, или те двое, в полушубочках, тоже были не лыком шиты. Мужик, стоявший у конька, повел глазом на стрельцов, толкнул товарища в сани и, повалившись боком на грядушку, гикнул и пустил коня. Так и ушли в переулок, только снег завился. Арсений головой крутнул:
— Лихие ребята! Узнать бы, чьи они.
Но не до того стало. Народ валом напирал через Чертольские ворота. Стрельцы влились в толпу. А все же не зря в переулочке стояли: оборонили крестный ход. Те, с саночками, много могли наделать беды.
Иов с иерархами, двором, воинством, приказами, выборными от городов вышли на Девичье поле, под самый монастырь. Впереди несли знаменитые славными воспоминаниями иконы Владимирскую и Донскую. Навстречу из монастырских ворот вынесли икону Смоленской божьей матери. В уши ударил звон колоколов. Звон малиновый. При таком звоне душа страждет. Икона Смоленской божьей матери в золотом дорогом окладе, украшенном бесценными камнями.
Подходили из Хамовников, шли от Никитских ворот, из Малолужниковской слободы и стеной ломили с Пречистенки. Из-за Москвы-реки санным переездом шли из Троицко-Голенищева, Воробьева, Раменок. Мужики, бабы, дети. Люди напирали, жарко дыша в затылки друг другу.
Боялись страшного. Жизнь пугала. Жестокими кострами, на которых жгли людей. Поветренными морами. Пыточными дыбами. Страшным судом. Геенной огненной.
Годунов стоял под высоко поднятой иконой. Глаза у правителя запали, нос заострился, и видно было — дрожит в нем каждая жилка. Обведя толпу глазами, он шагнул к патриарху.
— Святейший отец, — сказал с трещиной в голосе, — зачем ты чудотворные иконы воздвигнул и народ под ними привел?
На Девичьем поле стало так тихо, будто каждый задержал дыхание.
Иов, сжав яблоко посоха, выставил бороду, ответил:
— Пречистая богородица изволила святую волю на тебе исполнить. Устыдись пришествия ее и ослушанием не наведи на себя праведного гнева.
Годунов упал на колени в снежное крошево. Голова его, забывшая за многие годы, как склоняться, опустилась до земли.
Иов, не глядя на него, прошел мимо, к церкви. Прошел рядом, даже коснулся краем мантии.
Правитель стоял на коленях. Он знал: то, чего желал всей душой долгие годы, свершилось, но не испытывал ни радости, ни волнения. Чувствовал под ногами жестко надавливающий на колени ледяной наст, и это было единственным его живым ощущением. В нем будто бы все заледенело, застыло. Он не мог пошевелить ни единым членом, как в страшном сне, когда силится человек палец стронуть с места, а он не слушается, хочет крикнуть, но звук из горла не идет. Ужас охватывает человека, волосы у него встают дыбом, а он бессилен, беспомощен, бесплотен.
Вдруг Годунов услышал голоса, всхлипывания, причитания и, подняв лицо, увидел вокруг незнакомых людей. Множество глаз смотрели на него, будто бы спрашивали неведомо что.
Борис Федорович увидел глаза женщины в темном тяжелом платке. И ее глаза спрашивали. Борис Федорович потянулся к тем глазам и вдруг усмотрел в них… жалость. «Чего же она жалеет меня?» — подумал он.
И другой взгляд поймал Борис Федорович. Глаза смотрели, будто зная все и о прошлом, и о будущем правителя. Борис Федорович склонил лицо. И то, о чем он не позволял себе и думать, вновь возникло в сознании. Выше Борисовой воли было то воспоминание, не подвластное времени. Его нельзя было ни стереть, ни загородить другими думами, ни вырвать из памяти никакой силой. Оно жило, казалось, само по себе и, вновь и вновь возвращаясь, било в сердце с жестокой беспощадной болью. Борис увидел длинный переход кремлевского дворца, серые плиты пола. Дверь в цареву спальню тихо отворилась, и торопливо в Борисов затылок шепнул Богдан Бельский: «Другого нам не дано».
Борис мучительно сжал веки, гоня прочь видение. И оно, словно послушав его, неожиданно ушло. Болезненно сжавшееся сердце затрепетало в груди с облегчением, с надеждой на избавление от непосильной муки. Борис открыл глаза и чуть не задохнулся от поразившей его вновь боли.
В одном шаге от правителя стоял неизвестный парнишка в армячке. В вороте армячка белела тонкая, как стебелек, детская шейка, незащищенная, легко ранимая, и эта незащищенность, ранимость ударили по глазам правителя, словно он разглядел еще и нож, вонзающийся в детское тело. Борис обессилел и опустился на снег. «Замолю, замолю грехи свои, — чуть не воскликнул он, — и праведной жизнью найду прощение!»
Кто-то подхватил Бориса Федоровича под руки, приподнял, повел в монастырь.
В келии царицы-инокини было тесно от людей. У иконостаса ярко горели свечи, оплывая от духоты. Правитель услышал, как патриарх сказал:
— Благочестивая царица! Помилосердуй о нас, пощади, благослови и дай нам на царство брата своего, Бориса Федоровича!
Царица не ответила. Патриарх вопросил во второй и в третий раз. Царица по-прежнему молчала. В тишине было слышно, как потрескивают свечи. Наконец царица подняла голову и высоким, звенящим голосом сказала:
— Ради бога, ради вашего подвига, многого вопля, рыдательного гласа и неутешного стенания даю вам своего единокровного брата, да будет вам царем!