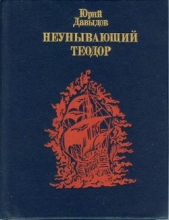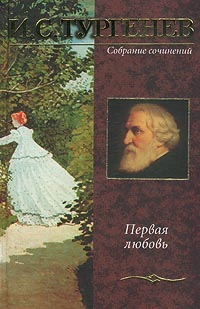Соломенная Сторожка (Две связки писем)

Соломенная Сторожка (Две связки писем) читать книгу онлайн
Юрий Давыдов известен художественными исследованиями драматических страниц истории борьбы с самодержавием и, в особенности, тех ситуаций, где остро встают вопросы нравственные, этические. Его произведения основаны на документальных материалах, в значительной степени почерпнутых из отечественных архивов.
В настоящем издании представлен полный текст романа, посвященного в основном выдающемуся русскому революционеру Герману Лопатину.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вышел длинный костлявый человек в черепаховых очках. Лицо узкое, бесстрастное. Тате подумалось: учитель арифметики.
– Что вам угодно?
Тата оглянулась на дверь и шепотом осведомилась, как и где найти господина Нечаева.
– Простите, мадемуазель, – сухо произнес типограф, – я такого не знаю. Вы, очевидно, ошиблись.
– А мне… Мне сказали, вы дадите адрес…
Типограф развел руками. Все было как в романе: ни один мускул не дрогнул на его лице. Но глаза из-за очков смотрели остро. Тата почувствовала себя шпионкой. Боже мой, ведь она помнила пароль, ей-богу, еще час назад помнила.
– Послушайте, – сказала она, – там какие-то цветы. Гиацинт? Да, да, гиацинт – первый, а дальше…
Он усмехнулся: бедняжка мучительно морщит лоб. Подсказал: «Рододендрон ».
И Тата зачастила как школьница:
– Гиацинт, рододендрон, эдельвейс. Вот, вот, видите, я вспомнила. Видите?
– Следует лучше тренировать свою память, мадемуазель, – менторски заметил типограф. И улыбнулся: – Такая юная, а уже заговорщица.
– Огарев просил отвезти рукопись, – скромно потупилась Тата. – Вот и весь заговор.
– А известно ль вам, что вы еще далеко от цели?
– Не-ет, – опешила Тата. – Как далеко? Я должна нынче вернуться домой, в Женеву.
– Это невозможно.
У Таты был вид человека, попавшего в ловушку. Типограф участливо взял ее руку.
– Не беспокойтесь. Я телеграфирую в Локль, вас встретят и проводят.
– Поймите, я должна ночевать в Женеве.
– Не беспокойтесь, – повторил типограф. – А в Женеву к ночи не вернешься: последний поезд уже ушел. Ничего, не беспокойтесь, я телеграфирую, вас встретят.
Господи, как объяснить этому арифметику, что она не может ехать в какой-то там Локль и провести ночь под одной кровлей с Нечаевым. Нет, этого она никак не могла объяснить.
Уже смеркалось, когда Тата оставила Невшатель.
Поезд часто останавливался, пассажиры выходили, вагон пустел. Тату все сильнее пробирала тревога, она жалела, что согласилась на просьбу Огарева, и сердилась на Огарева, который почему-то решил, что Нечаев скрывается в Невшателе. Тигренок, думала Тата, нет, убийца. Убил предателя, но ведь убил, убил. А старички мурлычут: наш мальчик, наш бой. О-о, какое легкомыслие: ехать на ночь к этому человеку.
В Локле, на крохотной приграничной станции, никто не встречал Тату. Острый транзитный ветер дул из Франции. Качался фонарь, удлиняя и укорачивая тени. Ей вдруг показалось, что она умрет от ужаса посреди этой ночи… Скользнули две тени, спросили о чем-то, она пролепетала: «Да, да»; услышала: «Идите с нами».
За полем, в темном шале́ блекло озарялось окно первого этажа. Отворилась дверь. В прихожей не было ни души, будто дверь отворилась сама. На верху винтовой лестницы возник гном со свечой, жестом пригласил Тату подняться. С каждой ступенькой ее колени слабели. Гном был безмолвным, как и те, исчезнувшие, проводники. Какие-то переходы, запах сухих трав и козьей шерсти. Гном сделал знак: стойте и ждите. И будто провалился. Какая нелепость, какая чудовищная нелепость… Ей показалось, что появился тот же гном, но то была карлица, махонькая старушка. Теперь Тата спускалась куда-то вниз, но вот карлица постучала в дверь, пальчиком указала – туда, мол.
Он бросился к Тате и стал целовать, она, ошеломленная, уперлась ладонями в его грудь, он отступил, и она увидела лицо Нечаева – счастливое, ликующее, потрясенное, измученное, совсем не такое, какое видела прежде, и мгновенная горячая жалость к нему, а вместе и радость за себя, за свое избавление от страха охватили Тату. Но вслух она сказала:
– Позвольте, с чего это вы?
– Но вы же приехали… вы же сами приехали ко мне, – потерялся Нечаев. – Ах да, ну, конечно, я опять вас напугал. Садитесь, садитесь! Небось голодны? Давайте шляпку, вот так. Садитесь. Ну, спасибо, вот спасибо, что приехали, ах, как это хорошо, что приехали… – Он суетился, руки его дрожали. – Тут такая тоска, такая тоска. Вы голодны, мы это мигом. Здесь хорошо, правда? Славно! Вы не пугайтесь, а то я вас, видать, напугал, а?
Тате бы остудить эту суетливую пылкость, Тате бы сразу сказать, что она приехала по просьбе Огарева, но Тата промолчала, захваченная врасплох жалостью к этому мальчугану. Она так и подумала: «мальчуган». Но этим же словом, не произнесенным вслух, внезапно и навсегда уничтожилась несколько экзотическая тяга к Нечаеву, которая подчас озадачивала и тревожила Тату.
А Нечаев как с горы летел, нес какую-то дичь о доверии, отношениях, чувствах, целовал ее руки, волосы, плечи, потом опрометью выбежал из комнаты: «Сейчас, минуту, вы голодны…»
Свеча горела на столе. «Ты играла в великодушие, ты кокетничала, а он…» – не слышала Тата эти слова, не подумала этими словами, а внезапно прониклась суровой укоризною покойного отца. Оплывала свеча в оловянном подсвечнике, в пламени с синеватой каймою то вытягивался, то укорачивался, страдальчески гримасничая, прекрасный лик сицилийца.
Это было во Флоренции, осенью прошлого года.
Герцен сказал: «Я еще такого чуда не видывал». Гибкий, как фехтовальщик, граф Пенизи приходил к ним на Piazza santa Felice. Музы сопровождали его, как Диониса. И клавишами, и струнами, и своими голосовыми связками он владел виртуозно. Пенизи писал сжатую прозу, в октавах Пенизи жил Торквато Тассо. На языке немецком, французском или английском он безошибочно избирал оборот, вплотную и вместе свободно облегающий мысль. Только ли Герцен не видывал такого чуда?
Но в судьбе Пенизи лежала роковая близость с судьбой Таириса, внука Аполлона. Если фракийского певца ослепили музы за его дерзновенный вызов на состязание в превосходстве, то Пенизи был слеп от рождения.
Герцен был не прав: «Ты играла в великодушие». Не так. Или не совсем так. Она не умела отвергнуть его любовь, ибо он был слеп. И опять не совсем так. Она была увлечена Пенизи, или, лучше сказать, ее увлекла его любовь к ней. Откуда было знать Тате, какой непомерной ценою расплачиваются порой и тот, кто сострадает, и тот, кому сострадают?
Пенизи предложил ей руку. Тата струсила, оробела, смутилась и… и не отказала. Недостало духу. Она понадеялась на постепенное охлаждение и попросила отсрочки. Пенизи покорился. Покорился искренне. И столь же искренне взбунтовался против своей покорности. Он загнал Тату в тупик: никаких отсрочек, решайте немедленно, сию минуту, сей же миг. Ей показалось, что его незрячие глаза пылают, она повторяла шепотом: «Простите… простите… простите…»
День спустя Тата получила записку: Пенизи писал, что застрелится, непременно застрелится. Тата поверила. Она не догадывалась, что самоубийцы не пишут извещения о самоубийстве. Она поверила, как верил и Пенизи. И тогда безумие на цыпочках подбежало к Тате и закружилось, и Тата услышала тонкий-тонкий рассыпчатый звон бубенцов.
Бедные медики, у них были дипломы, но не было врачующей мудрости. Какой врач помог бы Тате: ведь все было в ней и она была всем – огонь, вода, свет звезд, вселенная и каждый атом вселенной, все человеческие муки и физические муки каждого из тех, кого замуровывали заживо, поднимали на дыбе, жгли каленым железом, душили испанским воротничком… Но она не кричала, не рыдала, не билась, не буйствовала – ходила, ложилась, сидела, не произнося ни звука.
Отец примчался из Парижа, был при ней неотступно.
Он чувствовал себя «прошедшим», постаревшим и мыслью, и плотью, а тут-то и настигла главная казнь, ибо главная наша казнь в наших детях. Герцен увез Тату из Флоренции. Из этого напыщенного, декоративного города. Он отхолит свою Тату, свою старшенькую, самую близкую изо всех детей. Отхолит или умрет, не дотянув до шестидесяти.
В Париже, печальном и мудром, забрезжил свет. Тате стало легче, она спускалась с высот и выбиралась из пропастей, где невозможно существовать. И Герцен уже знал, что она будет жить, что они будут жить. «Предполагаем жить… И глядь – как раз – умрем». Отец был не прав: «Ты играла в великодушие, ты кокетничала, а Пенизи…» Не прав, да. Но своей неправотой отец оставил суровый завет: говори правду, пусть и жестокую.