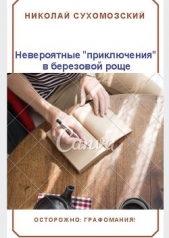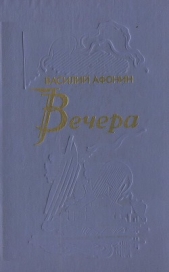Афонин крест

Афонин крест читать книгу онлайн
Сергей Михайлович Бетев родился в 1929 году в г. Катайске, на Урале. Еще студентом, на практике в Якутии, опубликовал в 1950 году свой первый рассказ. Его книги «Следствие закончено», «Эшелон идет в Россию», сборник документальных детективных повестей «Без права на поражение» (диплом на Всесоюзном конкурсе, посвященном 60-летию МВД и 100-летию Ф. Э. Дзержинского) — широко известны читателям.
В 1965 году журнал «Юность» опубликовал повесть С. Бетева «А фронт был далеко» («Своя звезда»), действие новой повести «Афонин крест» проходит на той же станции Купавино и тоже во время войны…
(«Уральский следопыт», № 6, 1978 г.)
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но трудовая, с мозолистыми руками Купавина была только половиной населения. С первых же дней стройки ее улицу заняла другая половина — беспечная, веселая, шумливая, а часто и драчливая. Через этих-то маленьких купавинцев и началось родство с остальными, хотя и шло оно каким-то обратным порядком.
— Ты чей? — спрашивал Афоня мальчишку, вертевшегося возле его сторожки.
— Ялунина я — Санька.
— Какого Ялунина?
— Бригадира.
Так и получилось, что Афоня узнавал бригадира Ялунина, хоть и не видел его еще. Потом рабочего Полыхаева, который оказался на Купавиной самого высокого роста. А потом, когда через какое-то время пришлось разговориться с Ялуниным, то вышло, что знакомые они старые: Саньку-то его Афоня знал давно.
Да и взрослые-то купавинцы сводили знакомство с Афоней почти тем же порядком. Завязывался пустяшный разговор, и собеседник, заметив любопытствующий взгляд Афони, вдруг решал нужным сообщить:
— Да ты знать нас должен — Полыхаевы мы. Мой Васька у тебя частенько в гостях пасется…
Так и становились близкими людьми, чуть не родней. Да, он любил их, купавинцев!
Но как пришла эта любовь, объяснить бы не смог.
И вот эта весна…
В тот день у него как будто перестали болеть ноги, дышалось легко и не кружилась голова. Утро принесло с собой ту ясность, которая стирает полукраски: среди белого снега чернели пятна проталин, небо залила ровная голубизна, и дома, деревья, телеграфные столбы с нитками проводов казались нарисованными.
Весна раньше всех приходила в березовую рощу, и Афоня всегда встречал ее здесь. И на этот раз роща встретила его приветливо, как старого друга. Он же глядел на знакомые березы и невольно дивился их стойкой красоте. Но радость новой жизни не заглушила в памяти недавние тяжелые дни: там, где к прошлогодним могильным холмам вдвое больше прибавилось новых, березы стояли грустные и задумчивые.
В их тиши и присел на пенек Афоня, снял шапку, пригладил волосы.
— Прибавилось народу-то…
И не удивился, как в прошлом году.
Пригревало солнце, манило прилечь, но Афоня понимал, что это обман и поддаваться ему нельзя. Он поднялся с пенька, потихоньку прошел всю рощу, вышел на дальнюю опушку и увидел, как по красногорской ветке паровоз вперед тендером вытягивает платформы с большими свежими ящиками.
И сразу подумал о купавинских ребятишках. Конечно, железная дорога роднее для них, но не все же станут машинистами да путейскими рабочими. Непременно потянет их и к неизвестным машинам. Но все это потом.
А пока надо не пропустить березовку. Доведется ли самому привести сюда ребятню?
Может, и нет. Ногам-то вон как тесно в голенищах…
Значит, приведет сюда малышню Васька Полыхаев. Сильный парень Васька Полыхаев. И хорошо, что сила досталась доброму человеку.
Нынешняя весна приходила к Афоне, как откровение. Давно уверовал он в то, что у каждого человека свой жизненный круг. И — коли пришла пора — Афоня со спокойной ясностью в душе мог сказать себе, что собственный круг завершает в полном согласии с собой.
12.
Снег уже согнало, и земля лежала размокшая, тяжелая. К вечеру немного приморозило, дневную грязь схватило.
Афоня собирался в очередной поход. Три свертка приготовленные лежали на топчане. Но прежде, чем уложить их в старую брезентовую сумку, еще раз проверил — все ли сделал так, как надо. И почувствовал, что устал. Присев на топчан, привалился к стене и на минуту закрыл глаза. Боль в пояснице постепенно унялась и шевелиться не хотелось. Мысли путались. Удивляясь себе, долго соображал, как лучше сегодня идти, чтобы не делать лишнего конца.
— Нехорошо… — мысленно упрекнул себя за слабость.
Никуда не денешься, понимал, что сдает. Последнее время, когда ночами находила короткая дремота, сразу начинали одолевать сны, а, может, и видения. Потому что и не спал вроде: чувствовал, что сидит на завалине магазина, держит в руках берданку, слышит, как маневрирует где-то близко паровоз, и в то же время видит себя у кого-то в гостях до войны, будто сидит за столом, уставленным разной едой и не может выбрать, чем закусить поднесенную рюмочку. И пить не охота, и отказываться неловко.
Стряхнул дремоту и сразу почуял боль в пояснице.
— Вот, окаянная! — проворчал про себя.
Вышел из сторожки, поплотнее притворил дверь. Постоял, подышал вечерним воздухом и, опираясь на палку, двинулся в сторону бараков. Ноги слушались плохо, сгибались в коленках, как резиновые. Поэтому, завидев оградку, останавливался, наваливался на нее, пережидал ломоту в коленях. Ходьба отнимала все внимание, но стоило остановиться и сразу подступала дремота, а вместе с ней приходили новые думы, воспоминания. Вот и теперь подумал, что годы берут свое, и уже не всякую яминку одолеешь, да что яминка!
И встала на миг перед глазами родная Рязанщина…
Рано кончилось Афонино детство. С японской не вернулся отец. Пришлось после первого класса уйти из школы. Нанялся в подпаски, но едва продержали лето, потому что плохо бегал Афоня — определили плоскостопие. Летами кое-как перебивались с матерью огородишком да случайной работой, а зимы почти каждый год заставляли надевать нищенскую суму.
В солдаты Афоню не забрили по той же причине — изъян в ногах. В германскую нужда придавила совсем, не спасла от голода и революция, после которой захлестнули Рязанщину гражданская война и мятежи.
Как выжил — не ведал. А когда пришел в себя, оглянулся и увидел, что молодость-то давным-давно прошла. Кое-как подправил избенку, прибрал усадьбу. Вывернулись с матерью на телушку, через год стали с коровой. Полегчало…
А для жениха посчитал себя перестарком. Так и остался один.
…Голодная зима тридцатого года сразу отняла достаток. Когда начал падать скот, Афонина мать и слышать не хотела о том, чтобы нарушить корову: держалась за молоко. Но ушли сено и солома, скормили незаметно крышу с конюшни, пропустили время, не прирезали корову. Пала. Не нужна стала и конюшня, сиротливо глядевшая в небо голыми стропилами. Афоня начал разбирать ее на дрова, потому что мать, не поднимавшаяся с постели, все время мерзла. Истерзавшая себя укорами за нехозяйственность, она умерла вскоре после нового года.
Тихо стало в избе.
Умирали соседи, но особливо жалко было ребятишек: они уходили из жизни беспомощно.
Лег в те поры Афоня на холодную кровать в пустой избе и решил умереть.
Сколько дней лежал — не знает.
Но вот прилетел на порог открытой двери скворец. Громко чвыркнул, ударил крепким клювом по зерну, застрявшему в щели.
И увидел его Афоня.
Весну увидел. Й захотелось ему жить. Поднялся, по стене добрался до двери, вылез из избы.
Лежал на крылечке, пригретом солнцем, и смотрел в небо. А там, в высокой бездне, как молодые барашки, гонялись друг за дружкой белые облачка. В огороде на высоком шесте в старом скворешнике хлопотали скворцы, выкидывая старые перья: обихаживали дом для жилья. С огорода тянуло проснувшейся землей.
На срубе колодца сиротливо стояла деревянная бадья. Долго смотрел на нее, потом поднялся, шатаясь, дошел до нее, опустил в колодец. Едва вытащил наверх, расплескал почти половину. Глотнул воды…
А потом отвязал бадью от веревки, вышел с ней на деревенскую улицу. Опираясь на палку, двинулся на пашню. Идти становилось все труднее, лапти облепила жирная земля.
И тут силы оставили совсем. Долго лежал на земле, пока холод не проник до костей, не схватил железным кольцом поясницу. Пополз, потеряв всякое представление о времени. Тащил за собой бадью. Наконец наткнулся на сусличью норку…
Вылил воду в нору и затих. Голова кружилась так, что глаза застилала белая пелена, в которой растворялись и бадья, и сусличья нора… Но увидел все-таки, как из норы едва-едва, без всякой боязни, выполз суслик. Выполз и лег прямо против Афони. Суслик был хилым до крайности, видно, голод не пощадил и его, сил хватило только на то, чтобы спастись от воды.