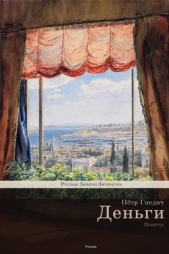УЗНИК РОССИИ

УЗНИК РОССИИ читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В литературе сообщается, что в канцелярии Инзова был единственный русский чиновник Кириенко-Волошинов. Если это так, то с Пушкиным их двое. Подчиненные, большинством местные, во всю пользовались мягкостью Инзова, чтобы проворачивать свои дела. Взяточничество, коррупция, всякого рода злоупотребления процветали в канцелярии с чисто восточным размахом, несмотря на относительную близость Запада.
Вдоль всего юга России образовывались колонии для развития и освоения края: немецкие, болгарские, еврейские. Инзов по мере сил защищал колонистов от притеснений центрального правительства, стараясь не замечать неисполнения спущенных сверху постановлений. В этом была и негативная сторона: состояние общественной сферы в Бессарабии было из рук вон плохое. Грязь в Кишиневе стояла и в сухую погоду. Когда к Инзову пришел нанятый на службу иностранец с жалобой, что дом, в котором он живет, со всех сторон окружен водой, Инзов спокойно ответил: «Ведь и Англия на острове».
Почти пять предыдущих месяцев Пушкин был счастлив, но воспоминания о прошедшем счастье не компенсировали отсутствие оного в настоящем. Поэт сразу начал скучать. Через три дня после приезда он уже пишет брату: «Будешь ли ты со мной? скоро ли соединимся? Теперь я один в пустынной для меня Молдавии» (Х.18). «В пустынях Молдавии», – скажет он и в письме Гнедичу, а в «Евгении Онегине» появится строка: «В глуши Молдавии печальной».
Пустыня для Пушкина – не географическое понятие, а синоним провинции, азиатчины, отсутствия интеллигентного общества, информации, светской жизни. Вот слова Пушкина о Ленском: «В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары…» (V.35). Слово «пустыня» то и дело повторяется в «Евгении Онегине», в письмах и в стихотворениях именно в таком значении. В Кишиневе Пушкин вспоминает тех, кого оставил в Петербурге, начинает чувствовать свой собственный ошейник, который все лето не натирал ему шею.
Он умоляет в письмах сообщать ему новости. Ничего хорошего не слышно из Петербурга. Запрещена книга его лицейского учителя Куницына «Право естественное», ибо само употребление слова «право» есть крамола. Слышит о том, что из университета исключено несколько профессоров. Его волнуют отъезды друзей за границу. Пушкин спрашивает, отбыл ли уже Жуковский с Ее Величеством? Узнает с завистью о том, что пока сам он добирался до Кишинева, уехал за рубеж Вильгельм Кюхельбекер.
Кюхельбекер думал отправиться в Дерптский университет, чтобы со своим родным немецким там преподавать. А в это время знатный вельможа Александр Нарышкин искал секретаря для поездки за границу. При своих связях он без труда оформил свидетельства на выезд (называвшиеся также паспортами) и для всей своей свиты. И вот Кюхельбекер в Дрездене, затем в Вене, Риме, Париже, Лондоне. Почему же он, Пушкин, это время столь бесцельно проводит в пустыне?
Кюхельбекер выступил в Вольном обществе любителей словесности в Париже с хвалой сосланному Пушкину:
Что для тебя шипенье змей,
Что крик и Филина, и Врана?
Доносы об этом дошли до правительства.
Рассказал ли Пушкину кто-нибудь из приезжих весьма существенную весть о том, как, узнав, что Кюхельбекер за границей, царь сказал: «Не следовало пускать»? Информация важная и для Пушкина. Значит, Вильгельма выпустили за границу без согласования с царем – вот какой демократический расклад. И совершили ошибку, которую вряд ли захотят повторить. После смерти Кюхельбекера остался сундук с бумагами: полное собрание неопубликованных стихов, прозы, дневники, – целая гора тетрадей. Тынянов в советское время сумел купить их и написал несколько работ. Он тяжко болел и умер в Москве в 1943 году. Архив Кюхельбекера он оставил в блокадном Ленинграде. Говорят, все рукописи из бесценного чемодана сожгли, потому что нечем было топить печь.
От приезжавших знакомых и незнакомых, из писем с оказией и без Пушкин то и дело узнавал новое о своих друзьях за границей. Без телефона, телеграфа, радио и телевидения, без самолетов и спутников связи, при тех допотопных способах передвижения, при жестокой цензуре и системе перлюстрации почты люди начала ХIХ века знали друг о друге и о событиях в мире больше, чем их соотечественники до начала распада советской системы.
Из Франции, милой Пушкину, Кюхельбекер писал: «Странное, дикое чувство свободы и надменности наполняло мою душу: я радовался, я был счастлив, потому что никакая человеческая власть до меня не достигала и не напоминала мне зависимости, подчиненности, всех неприятностей, неразлучных с порядком гражданского общества!». Кюхельбекер общался со многими западными писателями, в том числе с Гете, сокурсником которого по Лейпцигскому университету был отец Вильгельма. «Деятельная, живая жизнь пробудилась во мне», – сообщает он в письме к матери, написанном по-немецки. Поездка на Запад была, по его словам, «в высшей степени замечательною, для всей моей жизни, дар моей судьбы».
Реальное путешествие по Европе оказалось интереснее воображаемого, сочиненного Кюхельбекером пару лет назад. В Париже он так переполнен новостями, что есть письма, где, захлебываясь, он не успевает рассказывать и переходит на списки названий, событий, имен. Ему казалось, впечатлений хватит на всю жизнь. Волею судьбы так и получилось.
Он решил стать российским культуртрегером, своего рода миссионером русской словесности, и начал читать лекции по истории России и русской литературе, но, надышавшись свободой, несколько забылся и увлекся критикой существующих в России порядков. Его покровитель Нарышкин рассердился, и с помощью русского посольства в течение суток Вильгельма вытолкали из Парижа и отправили в Россию. Такова версия Тынянова.
Журналист Николай Греч оставил в воспоминаниях свою версию возвращения Кюхельбекера: якобы поэт Туманский помог ему «пробраться в Россию». Не случайно в официальном акте об отставке Кюхельбекера фактически фигурировало безумие («болезненные припадки»). Александру Павловичу стало известно, что Вильгельм собирался в Грецию, – там начиналась революция. В «Евгении Онегине» Пушкин, создавая портрет Ленского и имея в виду Кюхельбекера, сначала написал: «Он из Германии свободной привез учености плоды». А потом исправил «свободной» на «туманной» (V.33, 491-492). Дома друзья, опасаясь последствий, спротежировали Вильгельма чиновником по особым поручениям к генералу Ермолову, что походило на добровольную ссылку. Но наверху считали, что он удален за плохое поведение в Париже.
В то время, как Кюхельбекер в Европе вел жизнь в высшей степени замечательную и активную, Пушкин в Кишиневе, не меняя своих привычек, просыпался поздним утром. Сидя голым в постели, он стрелял в стену для тренировки, а затем холил свои неимоверно длинные ногти. В постели завтракал, сочинял, потом вскакивал на лошадь и часами носился по лесам и полям, начинавшимся сразу позади дворов. Когда солнце клонилось к закату, он появлялся за бильярдным или карточным столом, а затем в гостях. Волочился за чужими женами, дурачился, например, танцуя вальс под музыку мазурки, дерзил и готов был драться на пистолетах, рапирах или кулаках при любом показавшемся ему недостаточно почтительном слове. Ближе к ночи, если у него не предвиделось свидания, он с приятелями наведывался в «девичий пансион» мадам Майе. Хотя все места, где бывал Пушкин, тщательно обозначены мемориальными досками, на пансионе мадам Майе (дом ее сохранился) такой доски пока нет.
Служба его не утомляет, впрочем, говорят, переводчик Пушкин переложил на русский язык несколько законоположений старой территории, которые никому не понадобились. Весь год с него не могут взыскать двух тысяч рублей, которые он остался должен в Петербурге. Егор Энгельгардт в письме к бывшему сокурснику Пушкина Александру Горчакову сетует в те дни: «Когда я думаю, чем бы этот человек мог бы стать, образ прекрасного здания, которое рушится раньше завершения, всегда представляется моему сознанию». Жажда наслаждений, задор, наклонность к издевательству и насмешке, подчас жестокой, самолюбие и самомнение, полная бесцельность существования, – таков его облик в представлении случайных кишиневских наблюдателей.