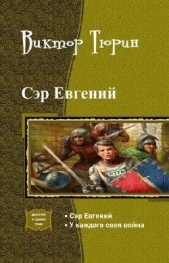Распутин
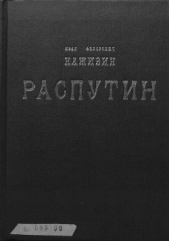
Распутин читать книгу онлайн
Впервые в России печатается роман русского писателя-эмигранта Ивана Федоровича Наживина (1874–1940), который после публикации в Берлине в 1923 году и перевода на английский, немецкий и чешский языки был необычайно популярен в Европе и Америке и заслужил высокую оценку таких известных писателей, как Томас Манн и Сельма Лагерлеф.
Роман об одной из самых загадочных личностей начала XX в. — Григории Распутине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
V
ЦАРКОСЕЛЬСКИЕ КОСУЛИ
Царскосельский дворец, точно крепко потрепанный бурею корабль, сумрачно плыл по грозно бушующему океану революции. Непривычная тишина царила в нем. Огромное большинство царедворцев разбежалось в первые же дни революции, бросив своего царя в несчастье на произвол судьбы. Осталось при царской семье всего человек пять-шесть из всей прежней свиты. Не приезжали больше пышные представители иностранных держав, не приезжали министры с докладами и важные генералы, исчезли торжественные красные лакеи — декорации остались, но огромное большинство актеров старой длинной пьесы исчезли, и странная жуткая тишина стояла теперь на большой опустевшей сцене. И непривычно много было всюду солдат — и в парке, и вокруг парка, и в самом дворце, — не тех солдат, которые так еще недавно каменели в священном ужасе и восторге при виде действительно обожаемого монарха, а солдат новых, серых, распущенных, горластых, грубых, которые дерзкими глазами подозрительно следили за каждым шагом своих узников, и когда царь, гуляя, шел туда, куда ему почему-то идти было нельзя, вчерашний раб грубо загораживал ему дорогу ржавой винтовкой и сердито говорил:
— Сюда нельзя, господин полковник!
И так недавно еще всемогущий царь, повелитель колоссальной страны, покорно повиновался. А когда кто-нибудь из царской семьи подходил к окнам в парк, караульные солдаты нарочно, насмех, начинали мочиться, а другие прямо за животики хватались: так была им смешна проделка их товарищей. Царь не сердился на серую солдатню, точно каким-то внутренним таинственным путем понимая, что сердиться на них нельзя. Но зато тем тяжелее и больнее были те удары, которые не стеснялись ему и его совершенно беззащитной семье наносить караульные офицеры. Сознавая тяжесть и даже опасность их положения в революционной, все более и более разлагающейся армии, царь был особенно мягок с ними, всегда подавал им руку, расспрашивал их о их положении и приглашал их к обеду.
Раз за обедом царской семьи присутствовал приглашенный таким образом молодой полковник гвардии Стрелкового полка. Полк этот был царской семьей особенно любим. Молодой полковник держал себя за столом не только сухо, но даже прямо враждебно: это был один из очень в те дни многих гвардии полковников, которые вдруг с восторгом, хотя и не без удивления, узнали, что они всегда были, в сущности, левее кадетов. цари проходят, карьера остается. И вот после того, как обед кончился — Временное правительство поторопилось значительно упростить его, — царь, как всегда, прощаясь, протянул полковнику руку.
Тот не принял протянутой руки.
— За что?! — с дрожью в голосе проговорил царь и покраснел.
— Мои воззрения не соответствуют вашим, полковник… — сухо отвечал гвардии полковник: он в самом деле не раз слыхал, что у людей бывают какие-то там воззрения.
— Сколько раз говорила я тебе, что не следует подавать руки… — вся побелев, тихо сказала царица. — Ты видишь теперь, что я была права-Молодой полковник, исполнив таким образом свой долг перед революцией, церемонно поклонился общим поклоном и, чрезвычайно довольный собой, вышел из столовой. Он усиленно рассказывал о своем подвиге направо и налево и был чрезвычайно доволен, когда все это было пропечатано в газетах. Но царь с этого дня перестал подавать руку незнакомым офицерам и разговаривать с ними.
Снаружи царь был совсем спокоен. По-прежнему он любил, чтобы ни завтрак, ни обед не запаздывали, чтобы жизнь шла аккуратно, по-прежнему любил он читать семье вслух по вечерам, с огромным удовольствием расчищал в парке снег и пилил дрова, совсем не смущаясь теми ротозеями, которые часами простаивали за чугунной решеткой парка, глядя, как работает б. царь, — так называли теперь государя все газеты с «Новым временем» во главе: оно тоже вдруг узнало, что оно было всегда, в сущности, левее кадетов, и с упоением заливало и царя, и его семью, и всю династию, и весь режим самыми зловонными помоями… А вечером перед сном царь неизменно раскрывал свою тетрадь в черном сафьяновом переплете и аккуратно, обстоятельно, не торопясь, вносил в нее все несложные события своей новой жизни: что прочитал вслух детям, сколько деревьев срубил и распилил, какая была в этот день погода…
В глубине души его происходил теперь тихий и сложный процесс, который он совершенно не сознавал, которого он по простоте своей не мог бы определить даже и приблизительно, но который тем не менее был простой натуре его чрезвычайно приятен: он, недавно могучий царь, теперь только, к пятидесяти годам своей жизни, начал видеть — временами, точно просветами — настоящую, а не поддельную жизнь, настоящих живых людей, а не тех, то серых, то залитых золотом кукол, которые то деревянно отвечали ему: «Так точно, ваше императорское величество», — то подобострастно смотрели на него жадными глазами, выжидая только удобного случая, чтобы чего-нибудь у него выпросить. Теперь он уже не мог никому ничего дать, и, мало того, теперь быть с ним в человеческих отношениях было не только невыгодно, но даже и опасно: офицера Коцебу за человечное отношение к царской семье Керенский приказал посадить на долгое время в тюрьму. И потому теперь царь стал просто человеком, и люди стали для него просто людьми…
И часто теперь он с удовольствием мечтал о том, как было бы хорошо, если бы этот первый, острый период революции прошел поскорее, и он мог бы тогда с семьей поселиться где-нибудь в России и жить частным человеком этой вот простой, настоящей, интересной жизнью, со всеми заодно, жизнью, в которой не было бы ни дворцовой лжи, ни интриг, ни жадности, а особенно не было бы этих тяжелых неразрешимых государственных задач, в которых он ничего не понимал и которые так угнетали его тою ужасной ответственностью, какая с ними была связана. Иногда вспоминалась ему кровь революции, ее преступления, ее опасности, но он отгонял эти мысли от себя: разве он чем виноват перед народом? Он старался как лучше, но если не вышло, значит, такова судьба. И какое, в сущности, было это несчастье родиться царем… — не раз думал он, засыпая.
Царица, больная, страстная, неуравновешенная, тяжелее переживала резкую перемену в своей судьбе. Когда впервые явился к ней великий князь Павел Александрович, бледный, взволнованный, больной, и сообщил ей, что государь в Пскове на ходу подписал отречение, она долго отказывалась этому верить: это невозможно!.. Это не входило в ее голову… И, наконец, поняла.
— Так значит, отныне я уже только сестра милосердия… — задумчиво проговорила она, глядя перед собой своими красивыми остановившимися глазами.
Но тотчас же ее обычная энергия воскресла: все это можно еще поправить — только бы Ники был тут! И с раннего утра она по разным направлениям послала ему ряд срочных телеграмм, но курьер вернулся с телеграммами обратно: почтовый чиновник, вчерашний раб, узнавший за ночь, что он всегда был, в сущности, левее кадетов, поперек телеграммы царицы синим карандашом развязно написал: «Местопребывание адресата неизвестно». Царица так вся и загорелась, но — сделать ничего было уже нельзя. Чины собственного его величества конвоя, люди, которые во дворце как сыр в масле катались, которых царская семья ласкала и баловала как только могла, все, даже офицеры, вдруг появились во дворце надушенные, напомаженные и, не довольствуясь простым красным бантиком, нацепили через плечо огромные шелковые красные ленты и смотрели новыми, наглыми, подлыми глазами. Матрос Деревенько, дядька наследника, живший во дворце как свой человек, теперь разваливался в креслах и требовал, чтобы Алексей подавал ему то то, то другое. Любимцы царской семьи, матросы с императорской яхты «Штандарт», жизнь которых была около царя сплошной масленицей, заметили, что великие княжны, развлекаясь под арестом, стали часто кататься в своей беленькой шлюпке по царскосельскому пруду, за ночь всю эту шлюпку обгадили и исчеркали похабными надписями и рисунками. Все это царица чувствовала с особой остротой, с особой болью и, усиленно куря, вспоминала ужасные слова Григория, что, пока он жив, все будет хорошо. Да, но вот его уже нет! Следовательно? И она холодела… Но как же та, Марья Михайловна, старица новгородская, которая предсказала ей скорое окончание войны, близкое замужество ее дочерей, безоблачное будущее? Да неужели же все это был один сплошной заведомый обман? Обман со стороны людей такой праведной жизни?! Нет, этого не может, не может быть! Да, конечно, переболеет сбитый с толку Думой, газетишками и жидами народ революцией и снова потребует обожаемого монарха назад!.. И она курила, курила, курила и мучилась, передумывая все одни и те же ужасные мысли, худела и глядела на мужа и детей новыми глазами, в которых был и страх, и страдание, а по ночам не спала…


![Сэр Евгений [СИ]](/uploads/posts/books/35451/35451.jpg)