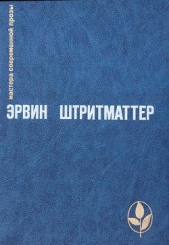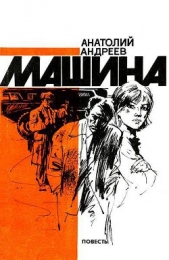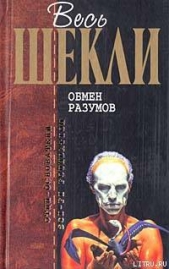Отец (СИ)

Отец (СИ) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— Товарищ лейтенант, колись мы спивали в остатний-то раз? — протирая слипавшиеся глаза, тем не менее закинул удочку Тимофей Афанасьевич.
— А ить верно, давно чтой-то глоток не драли, — поддержал его и помор. — Чтой-то я не припомню.
— Товарищ взводный, а правда, — подбодренный командирской опекой, горячо подхватил и Пацан. — Напоследок! Позвольте!
Это его «напоследок» теперь, перед боем не понравилось Матушкину.
— Перед сном? Это, что ли, ты хочешь сказать? — уточнил подчеркнуто он.
— Да, да! — подоспел Чеверда. — Тильки разочек заспиваем, та и спать.
— Распрягайте, хлопцы, кони, та и лягайте спа-а-ачивать, — затянул шутливо кто-то из полутьмы.
Но тут и Лосев как раз на свой, на северный лад, в частушечном ритме, с задорной гримаской вдруг горласто и исступленно залился:
Танк танкетку полюбил,
На свиданье в лес ходил.
От такого романа
Вся роща переломана…
Ии-и-их! Ха, ха!..-
ударив в ладоши, вскочил, смешно заскакал, завертелся босиком на соломе.
— Не вой! Смотри, кузнечик. Запрыгал, — осек солиста Голоколосский. — Петь, видишь, ему захотелось. А спать?
— Ну и спи! Что, с Танюшкой схлестнуться не терпится? — кончив сразу паясничать, подкузьмил инженера рыбак.
— Заткнись! Дрыхать! Всем немедленно дрыхать! — потребовал Игорь Герасимович. — Приказал же вам лейтенант!
— Пошел ты… Слышь, Семка! — отвернулся от Голоколосского Лосев. — Давай зачинай!
— Точно! Ну-ка, дуй, вжарь веселую, Семка! — опять поддержал его Яшка. — Та, братва! Ну, Семка, давай!
Как-то на марше пехотинцы подбросили в машину гитару. Так она и осталась во взводе. Обклеенная по измятому и избитому телу газетами, со струнами на одну четверть длины из телефонного провода, она тем не менее в чутких руках Барабанера становилась живой. В школе Семен был вездесущим и разбитным. Учился, правда, неровно, но легко, без зубрежки. Мечтал о славе Утесова, на всех инструментах играл. Создал ученический оркестр, и по субботам в спортивном зале старшеклассники под него танцевали.
Семену, видать, играть и петь сейчас не хотелось. Но он все же внял просьбам солдат, почувствовал их настроение. Другие, кроме Голоколосского, не возражали, да и сам лейтенант как будто не возражал. И Семен потянулся к гитаре. Но Пацан опередил его, метнулся в угол. Там в пирамиде из карабинов и автоматов стоял, как равный, и инструмент.
— Лови! — крикнул Яшка и швырнул его Барабанеру. Пацан был снова в ударе, опять готовый что-нибудь отчебучить. Однажды вот также швырнул Орешному со взведенным затвором заряженный «пэпэша». Орешный тогда съездил ему по зубам и правильно сделал, и только тогда, после этого Яшка, кажется, понял, чем это все грозило. Он и сейчас спохватился, но шалость его обошлась — Семен не дал гитаре упасть, поймал. Треснув легонько в его длинных тонких кистях, она расхлестанно звякнула, а Семен охнул, припав на правую ногу: гнойник на пятке, натертой кирзовым сапогом, болезненно дергало, особенно к ночи.
Усевшись на соломе, Семен, кривясь, выждал, пока боль поутихла, склонился над гитарой, разок-другой брякнул по расхлябанным струнам. Стал их подтягивать. Колки держали их плохо, настроить гитару было невозможно, но это, по всей вероятности, замечал лишь сам музыкант, его тонкий тренированный слух, А остальным медведь на ухо наступил. Только Голоколосский, бывавший, по его словам, и в Одесском оперном, и в Кировском, и даже в Большом, как и остальные, уже почти сморенный сытостью, сном и усталостью, высокомерно покосился на Барабанера. Семен от него отвернулся: знал, что не виноват, такой инструмент. Взглянул вопрошающе на лейтенанта. Матушкин скупо кивнул ему и улыбнулся. Семен просветлел.
И тут Барабанер задумался: что же спеть? Он мысленно перебрал несколько песен. Поколебался еще немного. Вначале, как бы настраиваясь, еще ниже, склонился над гитарой черной взлохмаченной головой, длинные, иглами пальцы осторожно тронули струны, сначала чуть-чуть и только затем ударили по ним так, что гитара с первым же аккордом ожила. И в разбитой дымной церквушке, что одиноко торчала посреди заваленных снегом могил, в безбрежии ночной студеной степи, у немцев под носом зазвучала совсем нехитрая мелодия и такие же, казалось, совсем нехитрые слова:
Ты жива еще, моя старушка,
Жив и я, привет тебе, привет…
Ваня едва сдерживал слезы, вспоминая свою мать. Смотрел и смотрел во все глаза на Семена и ждал, что вот-вот сейчас что-то случится. Но хотя и Ваня, и каждый знал, о ком пел Семен, и сейчас особенно остро чувствовал, как это страшно, то, что с ним случилось — с его родными, его семьей, да и с каждым, оторванным от близких, своих, — ничего, однако, не происходило: своды храма не рушились, гитара не раскалывалась, а он, Ваня, да и Семен, да и никто не умирал и продолжали все жить. И война не кончалась, даже не откладывался уже совсем близкий бой. Семен продолжал петь. И было странно, что у этого с костлявыми руками, с впалой грудью и измученным лицом мальчишки точно и твердо ходили по струнам искусные пальцы, неподвижно нависла над шейкой гитары жесткая шапка волос и голос был недетский, мужской: густой, сильный и мудрый. И, когда чуть уже громче и гуще он пропел последний куплет, бросил до этого ходившие пальцы неподвижно на струны, откровенно, теперь уже снова по-детски вздохнул и замолк, некоторое время все тоже молчали. Первым очнулся Голоколосский.
— Да гасите же, черт бы вас побрал! Свет! — гаркнул он. — Гасите! — И, так как никто не гасил, не шелохнулся даже никто, он сам сорвался с места и дернул за проводок. Опять упал на солому, повернулся спиной к костру и, как и все, снова затих. Затих уж слишком для него напряженно и подозрительно.
Засыпая, Матушкин слышал, как кто-то стонал, а во сне ему привиделось, что это стонет, зовет его Катенька, Екатерина Ильинична — Николкина школьная учительница по немецкому. Она взялась подготовить по иностранному языку и его на заочное в лесотехнический. За учебой, взаимными услугами и заботой не заметили, как привязались друг к другу. Не мог он уже без нее. И Катеньке он, хотя и был старше лет на пятнадцать, показался, возможно, как раз потому. А она молода, красива и образованна. Это все — и строгость, серьезность ее, профессия и интеллигентность — поначалу чуть не вогнало охотника в робость, а затем и в слепое, упорное сопротивление ей. И если бы при всей своей сдержанности она с чисто женскими чутьем и прозорливостью не отважилась на отчаянный шаг — не напросилась бы сама к нему на делянку, в тайгу, в зимовье якобы после трудного учебного года перед экзаменами хоть на несколько дней отдохнуть, неизвестно еще, сошлись бы они или нет, терзаемые, как это часто бывает, подозрениями, недосказанностями, неуверенностью. А так, оставшись впервые одни, с глазу на глаз… На полсотни верст никого, ни души, он, да она, да тайга… И свободные от всего… Вот только так все и решилось. Уж и свадебный день был назначен — первый же день длинного учительского отпуска. И не только жена была бы что надо. Жена, друг, любовница — все радости сразу. Но и мать настоящая сыну, хотя и сама еще девочка. Одно уже то, что образованная и культурная, как помогло бы ему поставить на ноги сына, да и ему самому хоть с грехом пополам закончить когда-нибудь лесотехнический. А уж какая она, Катенька, ладная, мягкая, добрая. Но и крепкая, твердая, когда это надо. В школе класс ее был самый собранный. Словом, лучше и быть никто не может, чем Катенька. Да все та же война помешала, проклятая. Вернулись в село из тайги, словно пьяные, в радужных планах. Месяц медовый!.. Неузаконенный пусть… В самом разгаре! Только бы жить. А тут вот она — война окаянная. Катенька о чем-то просит, шепчет в его сегодняшнем сне:
«Ох, как некстати, Евтихьюшка! Война-то, война». Заплакала, жмется к нему. А рядом пыхтит паровоз — умчать его от Николки, от Катеньки на эту на самую, проклятую. А его толкают, толкают в вагон.